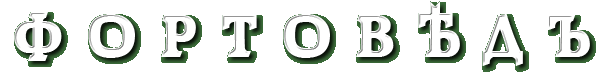Начало » Дополнительный (Additional) » Разное - для общения на прочие темы » О методах исторических исследований
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28892 является ответом на сообщение #28890] |
вс, 01 мая 2011 17:49   |
ж-939-ж
Сообщений: 1463
Зарегистрирован: ноября 2009
Географическое положение: Russland
|
|
|
|
ADSU
Так, как Вы там решите, естественно. Автор он на то и автор, что у него все права.
С определением, понимаю, завершили?
bell
Ну, хорошо, отвлечёмся от серьёзности.
А сколько ты думал у кенгуру ног?
Насчёт общипывания курей спроси у ПаВлиНа: что будет с павлином, если его резко переместить из области высокого давления в область низкого? Кстати, в природе существует  , как и общипанные курицы. , как и общипанные курицы.
Можно конечно слону две ноги отрубить, чтобы сделать из него человека, но, боюсь, ему слоном быть больше нравится.
Ой, а недавно в сети мутировавшую змею показывали с двумя ножками.
И, кстати, логического определения, что такое ноги - тоже нет. Даже, брат, если это ноги Ксюши 
|
|
|
|
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28894 является ответом на сообщение #28892] |
вс, 01 мая 2011 18:15   |
|
|
| Frau писал(а) вс, 01 мая 2011 17:49 |
ADSU
Так, как Вы там решите, естественно. Автор он на то и автор, что у него все права.
С определением, понимаю, завершили?
|
Как хотите.Я вообще не стремился дать оное определение,ибо не собирался открыть в нем новые грани или переработать...
|
|
|
|
|
|
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28897 является ответом на сообщение #28894] |
вс, 01 мая 2011 18:50   |
ж-939-ж
Сообщений: 1463
Зарегистрирован: ноября 2009
Географическое положение: Russland
|
|
|
|
Тогда всё - завершили.
И пояснение, а зачем нужно определение в исторической работе?
При методе прогрессивного эволюционизма - не нужно, так как описания достаточно. Главное в методе - добывать информацию. И хорошо, если собранную информацию потом не идеологизируют.
А, когда и зачем нужно? После праздников, которых много, будем задумываться над этим сложным и трудным вопросом. Перекур.
|
|
|
|
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28899 является ответом на сообщение #28885] |
вс, 01 мая 2011 19:16   |
ж-939-ж
Сообщений: 1463
Зарегистрирован: ноября 2009
Географическое положение: Russland
|
|
|
|
| bell писал вс, 01 мая 2011 16:30 |
Frau
Чего проще, сестра.
Люди - это много человеков, а человек - двуногое животное без перьев 
|
"Как общипывание, так и прочие отрубления и перемещения есть действие сторонней силы, что в расчет не принимаетя."
О, ля-ля! А, из первого утверждения - второе не следует! В определение "запихивают" все возможные параметры.
А, теперь про ноги.
У лошадей, слонов, жирафов, зебр - что? Они только ходят? У стола, кровати, шкафа - что? Они ходят?
Китаянкам одно время калечили ступни, чтобы они не могли ходить, у них, получается, не было ног?
У безногого инвалида нет ног - он перестал быть человеком?
Отрубленные ноги лежат в сторонке - ими не ходят, они перестали быть ногами?
Ребёнок на четвереньках - человек? А, Маугли - человек?
Кстати, определения "животного" тоже нет. Как и многих других - "жизни", "смерти", "сознания", "дыхания", вообще, многих ключевых определений нет. Эволюционизм! Знаем, как произошла жизнь, но не знаем, что это такое. Знаем, что называется ногами, но не можем объяснить, что это.
Как рассказать обездвиженному и слепому человеку от рождения, что такое ноги? А, ну? Поведай нам, брат, о "вещи в себе"!
В том-то и дело...
|
|
|
|
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28901 является ответом на сообщение #28899] |
вс, 01 мая 2011 20:53   |
bell
Сообщений: 1524
Зарегистрирован: августа 2008
|
|
|
|
Frau
В определении надо исходить от "естества", а не от последующих надругательств.
У "мебелей" (в том числе К.Собчак) именно "ножки".
Ребенок на четвереньках/Маугли - неодушевленный предмет, местоимение it(спросите Tkachenko)
Животное-все то, что ходя,кушает и ...
| Frau писал(а) вс, 01 мая 2011 19:16 |
...Как рассказать обездвиженному и слепому человеку от рождения, что такое ноги? А, ну?...
|
Он точно не глухой? Тода предложить ему читать на ощупь Канта.
| Цитата: |
Поведай нам, брат, о "вещи в себе"!
В том-то и дело...
|
Я могу только про "вещь-для-меня", звездное небо над нами и нравственный закон вокруг нас 
|
|
|
|
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28972 является ответом на сообщение #28901] |
вт, 03 мая 2011 01:23   |
ж-939-ж
Сообщений: 1463
Зарегистрирован: ноября 2009
Географическое положение: Russland
|
|
|
|
Прошу модераторов пока не удалять приведённые своеобразные примеры, так как в дальнейшем они будут использованы для демонстрации. Раз такие примеры возникли, будем с ними и работать.
Думала, что не успею обработать новую информацию, но Интернет значительно упростил задачу. Ура!
Переходим ко второй части. Школа Аналлов. Новая историческая наука.
Из ранее приведённых рассуждений о методе исследований в рамках эволюционизма следовало, что тот метод скоро перестал удовлетворять потребности пытливых умов. С самого начала 20 века на Западе начались поиски метода более точного, более гибкого, более результативного.
Привожу слова человека, который один из первых в Советском Союзе рассказывал и пытался внедрять новый западный метод в отечественной исторической науке, Аарона Яковлевича Гуревича, Светлая Ему Память:
Послесловие А. Гуревича: ЖАК ЛЕ ГОФФ И «НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА» ВО ФРАНЦИИ. (Гофф Ле Ж.., Цивилизация средневекового Запада)
"Историческая наука в нашей стране переживает глубокий и затяжной кризис. Его причины многообразны. На протяжении десятилетий советские историки находились под неусыпным и бдительным контролем тоталитарных партийно-государственных инквизиторов, контролем, который серьезно ограничивал, а зачастую и исключал независимое научное исследование. Свободная мысль пресекалась и преследовалась, архивы были закрыты, знакомство с новейшей зарубежной научной литературой было существенно затруднено и вследствие заключения немалой ее части в пресловутые «спецхраны», и в силу того, что наши библиотеки, бедные валютой, были лишены возможности получать новые публикации в должном объеме. Почти вовсе не переводились на русский язык произведения «буржуазных историков». Международное научное сотрудничество было сведено к минимуму и приобрело столь уродливые формы, что основная масса отечественных историков была практически отрезана от мировой исторической науки. Все это обрекало их на провинциальную отсталость. Распались те научные школы историков, которые еще сохранялись в первые послевоенные годы.
Но дело отнюдь не сводилось к внешним препятствиям. Главное, что мешало нашим историкам достигнуть уровня мировых научных стандартов, заключалось во внутренних, органических препятствиях. Монополия марксизма, к тому же понимаемого узкодогматически, в упрощающей ленинско-сталинской интерпретации, наложила неизгладимый отпечаток на историческую мысль. Свою задачу многие историки видели в иллюстрировании тезисов исторического материализма, а вовсе не в том, чтобы добывать объективное новое знание живой истории. Теоретические схемы, которыми руководствовались историки, отличались узостью и односторонностью. Соответствующим образом строилось обучение истории—и в общеобразовательной, и в высшей школе. Результат—глубоко искаженное историческое сознание общества. Подлинное знание подменено мифами. Все это— симптомы глубокой болезни общественного сознания, ибо без открытого взгляда на историю оно обречено оставаться искаженным. Не зная прошлого, невозможно ни правильно ориентироваться в современности, ни планировать будущее.
Преодолеть отставание и сектантскую замкнутость столь же трудно, как и избавиться от застарелых стереотипов. В условиях глубокого, обвального кризиса марксизма, в рабской зависимости от которого находилась мысль советских обществоведов, нужно заново обратиться к осмыслению гносеологических проблем истории, свободно и непредвзято обсуждать общие и специальные методы исторической науки. Главнейшая задача в этом отношении состоит, по моему убеждению, в том, чтобы освоить огромный исследовательский «задел» современной мировой историографии. Нашим историкам, равно как и всему читающему обществу, необходимо наконец познакомиться со всем тем ценным, что было создано в области исторического знания на протяжении последних десятилетий.
А создано немало. Среди направлений историографии, пользующихся признанием ученых, особое место занимает французская «Новая историческая наука» (La Nouvelle Histoire). На самом деле, она совсем уже не новая — она перевалила за шестой десяток своего существования. Новая она—по принципам исследования, по выработанной ею гносеологии, по разрабатываемой ею проблематике. У истоков этого научного течения стояли два великих историка XX в. Марк Блок и Люсьен Февр 1. В 1929 г. они основали исторический журнал, носящий ныне название «Анналы. Экономики, общества, цивилизации» («Annales. Economies. Societes. Civilisations»). To было событие, оказавшее огромное воздействие на дальнейшее развитие исторической науки во Франции, а затем и в других странах, и поэтому «Новую историческую науку» часто называют еще «школой „Анналов"», хотя сами «анналисты» предпочитают говорить не о «школе», что предполагает приверженность определенным научным канонам и единой методологии, но о «духе ,,Анналов"».
На смену повествовательному историописанию, которое рабски следовало историческим текстам и сосредоточивалось на восстановлении хода политических событий, Февр и Блок выдвинули принцип «история—проблема». Историк формулирует проблему и в свете ее отбирает те памятники, анализ которых может служить источником знания по этой проблеме. Проблемы истории диктует исследователю современность; но она диктует их ему не в каком-то конъюнктурном, сиюминутном плане, но в том смысле, что историк задает прошлому те вопросы, которые существенны для современности и задавание которых дает возможность завязать с людьми другой эпохи продуктивный диалог.
Таким образом, путь исследования истории идет не от прошлого к современности, а наоборот—от настоящего к прошлому. Тем самым Блок и Февр подчеркивали значение творческой активности исследователя. В определенном смысле он «создает» свои источники. Что это означает? Памятник прошлого, текст или материальные остатки сами по себе немы и неинформативны. Они становятся историческими источниками лишь постольку, поскольку включены историком в сферу его анализа, поскольку им заданы соответствующие вопросы и поскольку историк сумел разработать принципы их анализа. Выдвигая новые проблемы исторического исследования, основатели «Анналов» обратились к таким категориям памятников, которые до них оставались мало изученными или вовсе не изученными, и, главное, заново подошли к изучению памятников, которые уже находились в научном обороте. В лабораториях основателей «Анналов» и их последователей источниковедческая база истории претерпела существенное обновление и расширение.
Обосновав новые принципы исторического исследования, создатели «Анналов» выдвинули на первый план творческую активность историка. Произведенный ими пересмотр методов исторической науки по праву был впоследствии расценен как «коперниканский переворот», как «революция в историческом знании»2.
Блок и Февр подчеркивали: современность не должна «подмять под себя» историю; вопрошающий людей прошлого историк ни в коем случае не навязывает им ответов — он внимательно прислушивается к их голосу и пытается реконструировать их социальный и духовный мир. Повторяю: изучение истории есть не что иное, как диалог современности с прошлым, диалог, в котором историк обращается к создателю изучаемого им памятника, будь то хроника, поэма, юридический документ, орудие труда или конфигурация пахотного поля. Для того чтобы понять смысл содержащегося в историческом источнике высказывания, то есть правильно расшифровать послание его автора, нужно исходить не из идеи, будто люди всегда, на всем протяжении истории, мыслили и чувствовали одинаково, так же как чувствуем и мыслим мы сами,—наоборот, несравненно более продуктивной является гипотеза о том, что в историческом источнике запечатлено иное сознание, что перед нами—«Другой»..."
Сноски:
1. Из трудов Марка Блока (1886—1944) на русский язык переведены «Характерные черты французской аграрной истории» (М., 1957) и «Апология истории, или Ремесло историка» (1-е иэл. М.. 1973; 2-е дополненное изд.. 19S6) (в тго издание включены отдельные разделы muhoi рафии Блока «Феодальное общество»). Из трудов Люсьена Февра (1878—1956) переведены «Бои за историю» (М., 1991)собрание его методологических статей разных лет.
2. Р. Burke. The French Historical Revolution. The Annales School, 1929—1989.
Cambridge, 1990.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff/zakl.php
|
|
|
|
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28973 является ответом на сообщение #28972] |
вт, 03 мая 2011 01:44   |
ж-939-ж
Сообщений: 1463
Зарегистрирован: ноября 2009
Географическое положение: Russland
|
|
|
|
И ещё на разные лады изложение концепций и сути "новой школы".
Для чего? Во-первых, показать насколько уже много раз об этом говорилось. Во-вторых, надо предложить народу на выбор, у кого-то лучше и понятнее может быть описано. В-третьих, чтобы историки, которые таковыми себя считают, вспомнили, что они должны знать. В-четвёртых, чтобы не-историки, посмотрели, сколько в историков "впихивают" при учёбе. И, в-пятых, на тот случай, если какой-нибудь форум захочет что-нить перекопировать, чтобы было, что копировать, и это "что" было основательным и немаленьким.
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/31.php
Новейший философский словарь
ОГЛАВЛЕНИЕ
"АННАЛОВ" ШКОЛА, или "Новая историческая наука" (La Nouvelle Histoire)
направление во французской исторической науке и историографии, задавшее нетрадиционный и высокоэвристичный системный подход в гуманитарном знании 20 в. Главные представители "А."Ш. - Л.Февр, Блок, Бродель, Ле Гофф - традиционно акцентировали лишь наличие общего "духа А." и сопряженное с ним отсутствие жестко задаваемого универсального методологического канона. Возникновение "А."Ш. датируется выходом в свет в 1929 в Страсбурге первого номера журнала "Анналы экономической и социальной истории" (послевоенное название издания - "Анналы экономики, общества, цивилизации"), основанного Блоком и Февром. Традиционно в истории "АННАЛОВ" ШКОЛА принято выделять следующие фазисы эволюции: 1929-1945 - жесткая критика "А."Ш. подходов традиционной историографии Западной Европы (связана с именами Февра и Блока); 1945-1968 - утверждение и институционализация движения "А."Ш. (Бродель, Э.Лабрусс, Ф.Арьес и др.); 1970-1980 - фрагментация "А."Ш. ввиду обретения ею высокого интеллектуального статуса и значимой влиятельности в самых различных сферах общество- и человековедения (Ле Гофф, Ж.Дюби, М.Ферро, Ф.Фюре, А.Бюргьер, Э.Леруа Ладюри, А.Фарж, Ж.Ревель и др.). В качестве интеллектуальных источников "А."Ш. рассматриваются: первые упражнения в "неэлитной" (по объекту описаний) глобальной истории Вольтера, Шатобриана, Гизо, Мишле и др., неокантианская эпистемология Виндельбанда, Риккерта и М.Вебера; творческая схема французского философа А.Берра (1863- 1954) и историческая концепция Хейзинги, социологические модели Дюркгейма и Мосса, а также послуживший точкой отсчета для исходных размышлений Февра и Блока "Критический манифест в адрес историков" французского социолога и экономиста Ф. Симиана (1873-1935). Главное содержание переворота в совокупности принципов и подходов социального знания и историографии, осуществленного "А."Ш., образуют следующие социально-философские и гносеологические максимы и тематизированные исследовательские программы:
1) критика общепринятых трактовок отношения между историком, историческим памятником и фактом истории; новое эпистемологическое понимание позиции историка, выведенное эмпирически и созвучное тезисам неокантианства о противоположности "наук о культуре" "наукам о природе", о роли оценочных суждений, о необходимости применения метода "идеальных типов";
2) установка на создание тотальной истории, которая объединила бы все аспекты активности человеческих обществ; в рамках "А."Ш. осуществилась трансформация проблемных полей исторической науки: от экономической и интеллектуальной истории к "геоистории", исторической демографии и истории ментальностей, перешедшей в историческую антропологию;
3) принципиально междисциплинарная практика исторического исследования и социальных наук [внимание к проблемам хронологии, анализу "длительности" (см. Бергсон) и сопряженных измерений].
Согласно установкам представителей "А."Ш., настороженно относящихся к любым (включая Гегеля, Маркса, Шпенглера, Тойнби, Риккерта, М.Вебера) традиционалистским версиям философии истории, основной задачей истории как особо значимой науки о "человеке, человеке в обществе и во времени" выступает создание "всеобъемлющей" истории - "истории, которая стала бы центром, сердцем общественных наук, средоточием всех наук, изучающих общество с различных точек зрения - социальной, психологической, моральной, религиозной, эстетической и, наконец, с политической, экономической и культурной". Согласно модели миропонимания "А."Ш., характер и (в самой значимой степени) результаты исторического исследования обусловливаются формулировкой исходной проблемы (с каковой данное исследование собственно и начинается), суть же проблемы в конечном итоге диктуется культурой того общества, к которому принадлежит сам историк. ("А."Ш. отвергла установки историков позитивистского толка, следовавших принципам догматической привязанности исследователя к историческим источникам и ориентированных на профессиональное творчество в виде обильного цитирования и комментирования текста-"аутентичного источника".) Представители "АННАЛОВ" ШКОЛЫ были убеждены, что памятник прошлого (письменный или вещественный), являющий собой текст или артефакт, дошедший от изучаемой эпохи, сам по себе неинформативен и нем. Как исторический источник, он начинает выступать лишь тогда, когда историк приступает к его исследованию, в семиотическом смысле расшифровывая его язык; вне этого отношения исторический памятник правомерно полагать несуществующим. В эвристическом же аспекте трансформация сообщения исторического источника в исторический факт (феномен иного, более высокого понятийного статуса и историографического достоинства) осуществляется, согласно "А."Ш., в рамках процедуры осмысления этого источника самим историком, включающим его в определенную систему интеллектуально-интерпретационных схем, связей и субординации. "А."Ш. исходит, таким образом, из идеи исходной "непрозрачности" исторического памятника, трактуя тем самым историческое исследование как "борьбу с оптикой, навязываемой источниками". Не "история-повествование", а "история-проблема" призвана находиться в фокусе внимания профессионала: согласно Февру, "данное" - это "творение историка... изобретение и конструкция, созданная при помощи гипотез и догадок... Это ответ на вопрос, и если нет вопроса, то нет ничего". Изучение истории в этом контексте может восприниматься как неизбывный диалог современности с прошлым и в границах такого подхода та временная и культурная точка, из которой осуществляется изучение истории и определяющая видение историка, несет особую идейную нагрузку, ибо разворачивание исторического исследования осуществимо лишь от настоящего в прошлое. Ключевыми понятиями историографической традиции "А."Ш. выступают следующие: "структура", "конъюнктура", "цикл", "ментальность". Пакетное понятие "структура" (structure) обозначает самые различные феномены жизни социума - духовный склад людей, глубоко укоренившиеся обычаи, привычный образ мышления, явления в экономике - обусловленные такими безличными началами, как география, климат, биосфера, почвенное плодородие; "структуры" замкнуты, устойчивы во времени, способны сопротивляться изменениям. Иногда термином "структура", в традиции "А."Ш., характеризовалось общество в целом (традиционное или общество экономического роста). Понятие "конъюнктура" (conjoncture), в трактовке "А."Ш., отображает определенный период эволюции общества с характерным для него сочетанием различных тенденций: совокупности демографических изменений, динамики технологий производства, движений цен и зарплаты. (Термин "цикл" используется представителями "АННАЛОВ" ШКОЛЫ сопряженно понятиям "структура" и "конъюнктура".) Понятие "ментальность" (mentalite) относима к сфере автоматических форм сознания и поведения людей; согласно установкам "А."Ш., история ментальностей должна дополняться историей идеологий, историей воображения, историей ценностей. Реконструкция мира воображения людей прошлого и наиболее распространенных схем интерпретации ими действительности, уяснение соответствующей системы понятий - выступают для "А."Ш. не менее значимыми, нежели анализ социально-экономических структур исследуемого общества. В целом, максимы и методики "А."Ш. сочетают в облике достаточно органичной констелляции самые разнообразные достижения и установки всего комплекса социально-гуманитарных дисциплин 20 в.: интерес к социально-экономической и демографической истории вкупе с "историей повседневности" (в ущерб истории политической), компаративистские подходы, "математизация" истории с использованием компьютеров для обработки серийных источников, пафос междисциплинарности в исследованиях, особое внимание изучению природно-географической среды, акцентированный переход от исторического повествования к исторической интерпретации. Поворот в интеллектуально-ценностных ориентациях "А."Ш., начавший осуществляться в конце 1980-х, характеризуется углубленной разработкой концепции Броделя о множественности социального и исторического времени, природа и качество которых изменчивы в разных социумах. В конце 20 в. парадигма исторических изысканий "А."Ш. все более приобретает облик своеобразной исторической антропологии - конституируется обновленная глобальная концепция истории, объемлющая все достижения "А."Ш. и включающая в свои рамки изучение и реконструкцию материальной жизни, менталитета, повседневности, выстроенные в смысловом поле понятия "антропология", охватывая при этом и совершенно новые области исследования. Начинается изучение социальной природы и функций тела, жеста, устного слова, ритуала, символики и т.п. (См. также Блок, Бродель, Ле Гофф.)
А.А. Грицанов
http://ru.wikipedia.org/wiki/Школа_«Анналов»
Школа «Анналов»
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Школа «Анна́лов» (фр. École des Annales) также «Новая историческая наука» (фр. La Nouvelle Histoire) — историческое направление, основанное Люсьеном Февром и Марком Блоком. Эта историческая школа, формировавшееся вокруг журнала «Анналы», оказала значительное влияние на формирование всей мировой историографии XX века. Направление возникло и группировалось вокруг журнала «Анналы», носившего это название с 1929 по 1939 годы. С формированием данного направления связывают революционные изменения в исторической науке. Их суть заключалась в том, что произошла замена классической «истории — повествования» «историей — проблемой», а также предпринимались попытки создать «тотальную» историю, то есть историю, описывающую все существующие в обществе связи — экономические, социальные, культурные. Ученые стали ставить в центр своих исследований не деятельность великих людей, не описание событий, а общество в целом, пытаясь вскрыть глубинные структуры, существующие в течение больших временных отрезков. Такой подход потребовал привлечения данных смежных наук — социологии, этнографии, географии и других, а также расширения круга исторических источников. Сторонники «новой исторической науки» привлекают результаты исследований археологии, истории техники, лингвистики, проповеди, жития святых и др. Это привело к эпистемологическому повороту в исторической науке: источник сам по себе нем, вопросы ему задает исследователь, следовательно, ценность приобретает даже фальсифицированный источник, так как он может рассказать почему фальшивка появилась, кому это было выгодно. Сторонники данного направления изучают массовые представления людей той или иной эпохи (история ментальностей), смену ценностных установок на протяжении веков, проблему исторической памяти и так далее.
В 1929 году Люсьен Февр и Марк Блок создали журнал «Анналы экономической и социальной истории» (фр. Annales d’histoire économique et sociale), который издается до сих пор. В этом журнале историки пытались публиковать статьи, характеризующие историю «в целом», статьи, которые не ограничивались политическими, военными и дипломатическими аспектами истории. Школой «Анналов» сормулированна концепция реконструкции исторических фактов. Содержание концепции наиболее точно выражено М. Блоком, полагавшим, что для понимания истории необходимо обнаружить смысл явления, постигнуть мотивы людей, совершивших поступки в условиях, «прочитанных» ими на свой манер
.
Первое поколение: Марк Блок • Люсьен Февр
Второе поколение: Фернан Бродель • Эрнест Лабрусс • Пьер Губер
Третье поколение: Эммануэль Ле Руа Ладюри • Марк Ферро • Жак Ле Гофф • Пьер Нора • Жорж Дюби
Концепции Длительное время • История ментальностей • История повседневности • Новая история
Библиография
Annales. Histoire, Sciences sociales (фр.)
Агирре Рохас К.А. «Анналы» и марксизм // Французский ежегодник 2009. — М.: 2009.
Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики: французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. — М.: Мысль, 1980.
Бессмертный Ю. Л. «Анналы»: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. — М.: 1991.
Блок М. Апология истории, или ремесло историка. — М.: 1986.
Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». — М.: Индрик, 1993. — 328 с.
Каплан А. Б. Французская школа «Анналов» об истории культуры // Идеи в культурологии XX века : Сб. обзоров. — М.: ИНИОН, 2000.
Ле Гофф Ж. Существовала ли французская историческая школа «Annales»? // Французский ежегодник. — 1969. — М., 1970.
Февр Л. Бои за историю. — М.: Наука, 1991.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/761/ШКОЛА
Энциклопедия культурологии
ШКОЛА “АННАЛОВ”(“новая истор. наука”)
научное направление, возникшее во Франции и группирующееся вокруг основанного М. Блоком и Л. Февром журнала, выходившего под назв. “Анналы” (1929-39), “Анналы социальной и экон. истории” (1939-41), “Анналы социальной истории” (1941-45), непериодич. “Сборники социальной истории”; “Анналы. Экономики. Об-ва. Цивилизации” (1945-94); с 1994 “Анналы. История, социальные науки”. Суть “коперниканской революции”, как назвали возникновение Ш.“А.” сторонники этого направления, состояла в замене классич. “истории-повествования” “историей-проблемой”, в попытке создать “тотальную” историю, т.е. историю, описывающую все существующие в об-ве связи — экон., социальные, культурные. С этим связан решит, разрыв с традиц. позитивистски ориентированной истор. наукой. Ш.“А.” обращается к иному, нежели прежде, объекту изучения и ставит в центр не деятельность “великих” людей, не описание событий, в первую очередь политических, а исследование всего об-ва в его целостности, вскрытие глубинных структур, существовавших в течение больших временных отрезков. Такой подход требовал привлечения данных смежных наук — социологии, этнологии, географии — и смены взглядов на истор. источники. Поскольку “писаная” история охватывает лишь небольшую часть об-ва, сторонники Ш. “А.” привлекают данные археологии, истории техники, языка, хоз. документы, обращают внимание на массовые письменные источники (проповеди, жития и т.п.), но не для создания отд. историй быта, экономики, религии и т.п., а для комплексного, синтезирующего описания. Это повлекло за собой и эпистемологич. поворот. В классич. истор. науке считалось достаточным провести критич. исследование источника, отделить истинное от неистинного; все, о чем прямо не сообщалось в источнике, полагалось не подлежащим изучению. Основатели и последователи Ш.“А.” приняли иной подход: источник сам по себе нем, чтобы извлечь из него сведения, надо предварительно сформулировать вопросы, к-рые следует ему задать.
Напр., заведомо фальсифицированный документ, не могущий служить источником для выявления того или иного события, оказывается весьма ценным, если задаваться вопросом: “Почему он был создан?”, и может выявить существ, черты сознания эпохи. Т.о. истор. наука, до нек-рой степени, сама конструирует свой объект, исследование из однозначного поиска фактов превращается в “диалог” с прошлым.
Исходя из идеалов “тотального” описания, Ш.“А.” поставила проблему массовых представлений, ментальности, историчности сознания, смены установок, систем ценностей на протяжении веков.
В Ш. “А.” с момента возникновения сосуществуют и переплетаются два направления. Одно из них, условно называемое “линией Блока”, более направлено на изучение социальной истории, другое — “линия Февра” — связывает себя с исследованием цивилизаций.
Ш. “А.” пережила несколько этапов, в к-рых на первый план выходили разные тенденции. Первый этап, от возникновения журнала “Анналы” до смерти Февра в 1956 характеризуется повышенным интересом к истории ментальности, к “человеч. фактору” в истории. С кончиной Февра начинается 2-й этап, связанный с именем Броделя, и продолжается до его конфликта с большинством членов редколлегии и уходом с поста председателя редакционного комитета. Этот этап характеризуется интересом к структурам — экономическим, геогр. и др., к “медленным” переменам в истории, увлечением колич. методами, вниманием к структурализму.
До к. 80-х гг. продолжается 3-й этап Ш. “А.”. На этом этапе журнал не имеет единого руководителя, а идеи Ш. “А.”, перешагнувшие границы Франции, можно охарактеризовать как возвращение к “ранним” “Анналам”, к изучению человека как субъекта в его социокультурной обусловленности. На этом этапе Ш. “А.” представляют такие имена, как Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби (не входящий в редколлегию и предпочитающий говорить о своей приверженности “новой истор. науке”, а не Ш. “А.”), Э. Ле Руа Ладюри и др. С к. 80-х гг. развивается то, что многие, вне и внутри III- “А.”, называют “кризисом Анналов”: концентрация внимания на глубинных, малоподвижных структурах оставляет в стороне исследования событий, т.е. из поля внимания выпадает собственно история, интерес к массовым процессам исключает из исследований отд. личность, идея “конструирования” объекта грозит обернуться исследовав произволом.
В стремлении выйти из этого кризиса нынешнее руководство “Анналов” взяло курс на сближение истории с исторической антропологией и социальными науками (социологией, политологией, экономикой).
Лит.: Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: Француз, истор. школа “Анналов” в совр. бурж. историографии. М., 1980; Бессмертный Ю.Л. “Анналы”: переломный этап?//Одиссей. 1991. М., 1991; Гуревич А.Я. Истор. синтез и школа “Анналов”. М., 1993; Споры о главном: Дискус. о настоящем и будущем истор. науки вокруг франц. шк. “Анналов”. М., 1993; Dosse F. L'histoire en miettes: Des “Annales” a la “nouvelle histoire”. P., 1987; Burke P. The French Historical Revolution. The “Annales” School, 1929-89. Stanford (Calif.), 1990; Stojanovich T. French Historical Method: The “Annales” paradigm. Ithaca; L., 1976.
А.Я. Гуревич,Д.Э. Харитонович., Культурология. XX век. Энциклопедия. 1998.
Практически повторения вышеприведённого текста:
Философский словарь : http://mirslovarei.com/content_fil/shkola-annalov-novaja-ist or-nauka-15983.html
http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/z-ch-sh.htm#BM18027
Национальная философская энциклопедия. С. Левит. Культурология. XX век. Энциклопедия., 1998 г. ШКОЛА АННАЛОВ (новая истор. наука) :
http://terme.ru/dictionary/182/word/%D8%CA%CE%CB%C0+%C0%CD%C D%C0%CB%CE%C2+(%ED%EE%E2%E0%FF+%E8%F1%F2%EE%F0.+%ED%E0%F3%EA%E0)
http://ethnopsyhology.narod.ru/study/mentality/history.htm
История “Новой исторической школы”
“Не слишком долгая история "новой исторической науки" достаточно драматична. Уже само ее рождение было бунтом – против утвердившихся в историографии представлений о безусловном приоритете письменных, прежде всего архивных источников, о главенствующей роли событийной истории – политической, дипломатической, военной. Л. Февр и М. Блок призывали историков отказаться от академической, "историзирующей" истории, науки "ножниц и клея", занятой одними только текстами и воплощающейся в "блестящих докладах " и "непроходимом криволесье диссертаций". Они призывали повернуться "лицом к ветру", к жгучим проблемам современности, привлекая для их разрешения опыт людей прошлого, а значит, воскрешая жизнь этих людей во всей ее полноте и сложности – их привычки чувствовать и мыслить, их повседневную жизнь, их способы борьбы с обстоятельствами. Пользуясь данными географии, экономики, психологии, лингвистики, Блок и Февр стремились к воссозданию не отдельных сторон действительности, а целостного представления о жизни людей, людей "из плоти и крови". "Удобства ради, – писал Февр, – человека можно притянуть к делу за что угодно – за ногу, за руку, а то и за волосы, но, едва начав тянуть, мы непременно вытянем его целиком. Человека невозможно разъять на части – иначе он погибнет"; а между тем, продолжал он, историки "нередко только тем и занимаются, что расчленяют трупы". Таким образом, "новая историческая наука" изначально несла в себе "антропологический заряд". Этот в высшей степени увлекательный призыв не мог, однако, не породить в дальнейшем самых разных интерпретаций.
Среди последователей Блока и Февра, на протяжении полувека группировавшихся вокруг журнала "Анналы" и причислявшихся к школе "Анналов" (сам факт существования которой многими, впрочем, ставится под вопрос), велась и ведется острая полемика – между разными учеными, разными поколениями школы (сегодня их насчитывается уже четыре) и разными версиями "новой исторической науки". Сегодня она представлена уже целым спектром историографических течений, таких как новая экономическая история, новая социальная история, историческая демография, история ментальностей, история повседневности, микроистория, а также рядом более узких направлений исследования (история женщин, детства, старости, тела, питания, болезней, смерти, сна, жестов и т.д.). Историческую антропологию иногда перечисляют как одно из них; чаще же весь этот конгломерат не имеющих четких границ, переплетающихся между собой научных направлений именуют историко-антропологическим. Так что историческую антропологию в широком смысле можно, по-видимому, считать современной версией "новой исторической науки". Однако утверждение ее в качестве таковой явилось следствием очередной "драмы идей". В послевоенные годы преобладающей в "Анналах" была ее экономическая версия, связанная с именем Фернана Броделя (в 1956 г., после смерти Февра, он возглавил журнал). Интересы его сторонников были сосредоточены на реконструкции экономических отношений, главным образом "материальной жизни" прошлого, тесно связанной с повседневностью и существующей во времени "большой длительности"; изучение же того, что Блок называл "способами чувствовать и мыслить", оказалось почти забытым.
За возрождение этого последнего направления и выступили в начале 60-х годов Ж.Дюби и Р.Мандру, поддержанные группой молодых историков, составивших третье поколение школы "Анналов" – Ж Ле Гоффом, А.Бюргьером, М.Ферро и другими. Подходы Броделя были подвергнуты критике за абстрактность, схематизм, "обесчеловеченность". Именно с того времени вошли в широкий научный оборот названия истории ментальностей и – под несомненным влиянием британской культурантропологии и структурной антропологии К.Леви-Строса – исторической антропологии.
Этот эпизод называют вторым рождением "новой исторической науки". Одновременно он сопровождался новым бунтом, новым ее "отказом". Но на этот раз она порывала уже не с традиционной бесхитростно-событийной политической историографией, а с методологически изощренной, функционалистски или марксистски интерпретированной социальной и экономической историей, нацеленной на изучение систем и структур. Как писал Ле Гофф, ментальность стала противоядием против "бестелесных социально-экономических механизмов", которыми были полны тогда произведения историков. Отвергая системно-структурную историю, "новая историческая наука" снова отправлялась на поиски "живого человека".
Очевидно, что по отношению к гуманитарной науке, которая занимается человеком по определению, лозунг антропологизма или "человечности" – парадоксален, а вернее, тавтологичен. Речь, разумеется, всякий раз идет об определенном его истолковании. Начиная с 60-х годов залог "человечности" истории усматривается "новыми историками" в изучении ментальной сферы.”[1]
Ментальность явилась тем "окуляром", через которую стали рассматривать историческую реальность антропологически ориентированные историки.
В фокусе внимания историка-антрополога постоянно находится та точка, вернее, та область действительности, где мышление практически сливается с поведением. Эта область, получившая название "народной культуры", представляет собой целостный сплав условий материальной жизни, быта и мироощущения, "материк" преимущественно устной культуры, почти не оставляющий по себе письменных свидетельств. Не исключено, что в недалеком будущем "менталистская" версия исторической антропологии тоже будет признана недостаточно "человечной". Ведь коллективная ментальность, подобно социальным структурам, является, безусловно, одним из факторов несвободы человека, причем несвободы в самом, казалось бы, сокровенном и частном – в его собственном сознании; "телесность" и ментальность давят на субъекта не меньшим грузом, чем "бестелесные" социально-экономические механизмы. Уже и сейчас интерес историков смещается на ту, все же данную человеку "четверть свободы" на фоне "трех четвертей необходимости", на тот зазор между ментальной заданностью и поведением конкретного человека, который сегодня выпадает из поля зрения историков ментальности. Субстанцию человечности увидят, возможно, в уникальности единичного опыта, моментах личностного выбора как основе альтернативности истории. И это ляжет в основу новой версии исторической антропологии.”[2]
Исследовательское поле Новой исторической школы и исторической антропологии пересекается с исследовательским полем этнопсихологии, которая то же в значительной мере изучает “неформальную” историю различных народов. Именно поэтому исследования французских историков представляют для нас немалый интерес.
http://adhdportal.com/book_3262_chapter_51_2.10._SHkola_%22A nnalov%22.html
Школа "Анналов"
Потребность нахождения равновесных начал в истории стала ощущаться во Франции, измученной социальными катаклизмами XIX в. Первыми это осознали философы, когда А.Берр основал Центр исторического синтеза и приступил к изданию журнала с символическим названием "Revue de synthese historique". В 1911 г. он писал: "Есть некая самодовлеющая форма истории, которая, не нуждаясь в посторонней помощи, сама способна оказать ее историческому познанию"1. Эту идею А. Берр попытался воспроизвести в серии "Эволюция человечества" ("L'Evolution de l'humanite"). По свидетельству Ж. Лефевра в серии отсутствовал "всеобщий исторический синтез" и не было "единой идеи всеобщей эволюции человечества"2.
Восполнить этот пробел должен был новый исторический журнал, первые номера которого увидели свет в Страсбурге в 1929 г. - "Annales de l'histoire economique et sociale". Идейно многие представители будущей школы "Анналов" были связаны с французской социологической школой Э. Дюркгейма, что и нашло отражение в названии журнала. Л. Февр и М. Блок, редакторы журнала, призывали ликвидировать разрыв, сложившийся между успехами точных наук и отставанием истории, и обращали внимание на необходимость расширить историческую проблематику за счет обращения к истории хозяйства, экономики, техники, орудий труда и проч. Но особое место в палитре исторических исследований школы "Анналов" заняла "история чувств и образа мышления эпохи" (М. Блок). Именно в истории ментальностей основоположники "школы" видели "суть истории", позволяющей осуществить "всеобщий исторический синтез". Это не означало, однако, отказа от собственно экономической и социальной проблематики, но предполагало их рассмотрение через призму восприятия этих явлений людьми и способов их отношения к действительности.
Так возникла историческая антропология, особое внимание обращавшая на "образ человека" в истории и психологическую характеристику социальных и культурных институтов в жизни той или иной страны. Социальные явления объяснялись психологическими условиями, а также "коллективным образом чувств". С 1946 г. журнал стал выходить под новым названием "Annales. Economies. Societes. Civilisation". Следуя традициям позитивизма и наследию И. Тэна, представители школы "Анналов" уделяют большое внимание "влиянию среды", "коллективным судьбам и движениям", проблемам "человеческого единства", "длительности циклов" - "longue duree", цивилизациям и обществам. В результате "событийная история" отступает на второй план, становясь зачастую простой иллюстрацией истории "длительных циклов" и естественно-научных факторов истории.
Важно отметить, что в центре внимания "новой исторической школы" оказались не прерывы преемственности и социальные кризисы, а "эпохи равновесия", "ритмы смены смерти и жизни", "история питания", "история тела", "история костюма", "история детства" и многое другое, вписывающееся в концепцию "повседневности". В результате история как бы замедлялась, становилась неподвижной, с точки зрения отношений человека с окружающей средой, пренебрегающей событийной стороной дела. Поиск мельчайших деталей подтверждал "глобальность истории", а за скобками оставался сам человек, его мысли и чувства, способ отношения и восприятия действительности.
Историческая антропология, в интерпретации Ф. Броделя (основоположника теории "длительных циклов"), игнорировала в человеке присущее ему рациональное начало и все внимание сосредоточивала на реконструкции экономических отношений и материальной жизни прошлого, что, как справедливо отмечал В.М. Далин, отчетливо сближало ее с марксизмом.
Этот "перекос" с лихвой был исправлен в исторических штудиях Э. Леруа-Ладюри, восполнившего пробел обращением к темной глубине инстинктов и иррациональным мотивам в движении камизаров. Классовая интерпретация истории, недостаточная для объяснения крестьянского восстания в Вандее, с успехом была заменена ссылками на биологический базис в виде массового психоза и других проявлений бессознательного. В дальнейшем это не помешало Леруа-Ладюри абсолютизировать математические методы в историографии, отождествив программирование и историческое исследование и присоединившись к течению "клиометристов" в США.
И в том и в другом случае исследованию подлежал "базис" - биологический или экономический, что не меняло сути дела. Правда, приоритет все-таки отдавался биологии и демографии, которые детерминировали экономику. Исследованию подлежали "нравы, пол, смерть, преступность, фольклор, физическая антропология" с использованием вычислительной техники и структурного анализа.
Антропологизация истории нашла свое отражение в повышенном внимании к феномену смерти и "образу смерти в развитии культуры". Этой проблеме посвящена монография Ф. Арьеса "Человек перед лицом смерти"1 и исследование Ф. Лебрена "Люди и смерть в Анжу в XVII и XVIII веках"2; в первой из них прослеживаются психологические установки европейцев в отношении смерти на протяжении "длительного цикла" - от средних веков до современности, во втором - на основании математической обработки тысяч завещаний исследуется изменение отношения к погребальной идеологии и смерти в Провансе.
Французские историки верно подметили существенную особенность человека; в понимании индивидом и обществом смерти проявляется их отношение к жизни. Истории становилось недостаточно своих собственных средств и она все больше и больше тяготела к философским обобщениям, необходимым для уточнения "образа человека" в истории и верификации национальной идентичности. Именно в поиске и обретении самосознания времени и эпохи полагался смысл исторического исследования. "Живой человек" прошлого становился "базисом" настоящего, аннулирующим законы классовой борьбы. На смену "социально-экономическим механизмам" приходила история ментальностей и историческая антропология, возвращающие человеку его подлинное место в истории.
"История людей" сменяла "историю вещей", а революционные катаклизмы интерпретировались антропологически: "социализация идей" приводила к обобществлению мысли, обобществление мысли - к "социализации личности", а социализация личности - к "социализации имуществ". История характеризовалась "наращиванием социальности", тождественной совпадению мышления и поведения, особенно проявившегося в "психодраме" Французской революции. Традиционно тяготевшая к "истории мировоззрений", французская историческая мысль, усилиями школы "Анналов", обратилась к истории мышления и его проявлений во времени, что знаменовало собой попытку рациональным способом исследовать коллективную ментальность, предопределявшую социальное поведение. Примером подобного отношения к истории стала монография Пьера Шоню "Цивилизация Европы в эпоху Просвещения"1, в которой он уничижительно трактует Французскую революцию как сыгравшую регрессивную роль в развитии французской экономики и бросившую вызов единству нации.
Зато гораздо большее внимание Шоню уделил демографии и географии, столь важных для верификации национальной идентичности. Его исследования "Цивилизация в классической Европе"2 и "Европейская экспансия с XIII до XV столетия"3 знаменовали собой рождение "европеизма". Шоню первым поставил проблему европейской идентичности как смысла истории, одним из первых верифицировал европейскую идентичность антропологическим фактором, проведя демаркационную линию между европейцами и другими народами. По его мнению, европейская цивилизация могла быть какой угодно - христианской, центральноевропейской, средиземноморской, атлантической, - но только не "китайской" или "турецкой". Ученик Ф. Броделя пошел значительно дальше своего учителя, преодолев его своеобразный "экономикоцентризм" в виде теории "длительных циклов", когда заявил, что европейская идентичность является не "экономическим", а "культурным фактом". Иными словами, не экономика "обусловливает" человека, а человек - экономику, от антропологического фактора зависит и экономическая, и социальная сфера жизни. Культура тождественна природе человека, который постоянно лепит "свой образ" в истории, а европейская цивилизация является примером выдающейся роли человека во времени и пространстве. С этой точки зрения европейская колонизация не является фактом социальной и национальной дискриминации других народов, а служит иллюстрацией "антропологического фактора" в истории, подтверждающего высочайшую оценку европейской цивилизации и ее роли в мире. Согласно Шоню, основы "европейского превосходства" в мировой истории заложил не XVIII, а XIII в. - золотой век Европы. Когда на пороге XVIII в произошел "интеллектуальный перелом", положивший начало цивилизационному лидерству Европы и ее духа в истории, параметры европейской идентичности были лишь окончательно уточнены.
Шоню решительно отказывается наделять экономику конституирующими способностями, безоговорочно возвращая их человеку, с его социальными, психологическими и культурными свойствами, заключенными в ментальности. "La mentalite" как умственная способность, безусловно, господствует над экономикой, творя ее по своему "образу и подобию". Каков человек, таков и материальный мир, сотворенный его руками. Эта аксиома не вызывает ни малейших сомнений у Шоню, который идентифицирует человека его духовными и материальными достижениями, а не наоборот.
Шоню считает ментальность генетической кладовой рода, которая подтверждает связь происхождения института частной собственности с антропологическим и цивилизационным развитием человечества. Частная собственность - это институт этнически однородного общества, постепенно сформировавшего "единые правила игры" для всего сообщества. "Единые правила игры", основанные на высокой самооценке, чувстве собственного достоинства и индивидуализме человека, позволяют ему "держать дистанцию" по отношению к другим. Индивидуальность - это признак определенной антропологической эволюции. Совершить такую эволюцию способны лишь те индивиды, которые не обусловливают свое сосуществование взаимным вмешательством в дела друг друга, и в состоянии постоянно находиться вместе и, в то же время, в частной жизни, быть врозь. Индивиды в смешанных обществах генетически не в состоянии разделиться между собой, вплоть до индивидуализации и автономизации своего "я" в институте частной собственности.
"Метисаж" исключает частную собственность и индивидуальную, отличную от коллективной, жизнь. В этнически разнородном обществе ментальность индивидов представляет собой настолько пеструю картину, что человеку постоянно трудно самоопределиться, а следовательно, обрести необходимые социальные основы для совместной выработки правил существования с другими людьми. Институт частной собственности антропологически обусловлен и, как правило, совпадает с процессами национально-этнического обособления в рамках суверенных государств и с рождением экономических и правовых признаков этого социального феномена. Иначе говоря, для того чтобы появилась частная собственность, человек должен выделиться из коллектива и "материализовать" свою индивидуальность в этой форме. Но этому "выделению" должна предшествовать определенная ментальная эволюция, в ходе которой индивид обретет выражение равенства с самим собой в форме принадлежащей ему собственности. Ментальный образ мира в одних случаях верифицировал героическое одиночество человека в мире, в других - растворял его в коллективе, антропологически не позволяя выделиться и обрести свою идентичность в равенстве самому себе.
В результате, европейская антропологическая эволюция привела к важному биосоциальному результату - стремлению человека во всем полагаться и равняться на самого себя, в то время как большая часть человечества оказалась не в состоянии позволить человеку взять ответственность за свою индивидуальную жизнь на себя и выделиться из коллектива. С точки зрения истории ментальностей это означало, что в Европе мышление индивидов и свойственное ему чувственно-эмоциональное восприятие жизни породило или примирилось с мировоззрением, рационально разделившим мир на суверенные островки частной собственности; таков был антропологический "ответ" европейцев на "вызов" среды. Остальной мир подобной ментальной эволюции не совершил, человек остался "заключенным" в коллектив, что и обусловило отсутствие у него индивидуальной идентичности, исключительно коллективный характер самосознания.
По свидетельству В.М. Далина, понятие "mentalite" во Франции определялось по-разному: Робер Мандру интерпретировал "historie mentale" как "историю видения мира" или "vision du monde"; Ж. Дюби - как "immaginaire collective" или "коллективное воображение"; другие - как "совокупность подсознательной деятельности" или "incoscient collective"; В. Вовель дал определение ментальности как "силы инерции ментальных структур". Что касается П. Шоню, то он считал ментальность основным - "essentie!", предметом исторического исследования, который должен вытеснить неправомерно поставленные на первое место - экономические и социальные факторы исторического процесса. Отсюда его интерес к институту семьи в истории, религии, частной собственности, словом, ко всему тому, что является антропологической характеристикой человека в мире. В этом пункте история и философия смыкаются между собой, история проявляет интерес к проблеме самопознания человека в мире как смыслу истории, а философия традиционно интересуется проблемой свободы и необходимости, самосознанием индивида и общества во времени.
История ментальностей еще более актуализировала внимание к антропологическому фактору в истории, к обусловленности содержания социальной и экономической жизни архетипическими особенностями человека. История взяла на вооружение механизм философской рефлексии, использовав его при верификации национальной идентичности во времени и пространстве. Ранние представители школы "Анналов" отдавали несомненный приоритет теории обусловленности и предопределенности социального поведения факторами ментальности индивидов, ибо коллективная ментальность уподоблялась экономическим структурам, делая индивида несвободным в своем собственном сознании и поведении. Согласно формуле А. Кестлера, обусловленность рацио подсознанием напоминает "улицу с односторонним движением", когда подсознание посылает свои импульсы коре головного мозга, ведающей рациональным восприятием действительности, а "команды" рацио не воспринимаются подкоркой. Это обусловило то, что следующее поколение историков школы "Анналов" большее внимание уделяет проблеме подвижек массового сознания в сторону остающегося "зазора" между ментальной заданностью и реальным поведением человека, позволяющим индивиду видоизменять традицию и вносить новое антропологическое содержание в исторический процесс.
По большей части, представители школы "Анналов" философизировали историю, так как их внимание к формированию и трансляции во времени социальных феноменов и институтов предопределило философскую рефлексию по отношению к природе самого человека, к обусловленности содержания исторического процесса антропологическим фактором. Между детерминированным культурным архетипом поведением человека и конкретным поступком всегда имеется тонкая прослойка, допускающая свободный выбор человека. К этому оазису свободы в царстве необходимости и обратились исследователи, перенося свое внимание с проблемы исторической преемственности и традиции на проблему изменчивости, творческого развития, а нередко и социального девиантного поведения. В этом зазоре между ментальной заданностью и поведением индивида нашлась лакуна для исследователя, так как история, по существу, творится не тогда, когда все с неизбежной очевидностью повторяется и воспроизводится во времени, а когда совершается качественная эволюция человеческого общества, приводящая к усложнению, дифференциации и многообразию окружающего мира в результате свободного творчества человека. Внутренних свободных возможностей человека, по-видимому, недостаточно для того, чтобы преодолеть архетипическую детерминированность поведения, но они могут повлиять на направленность и содержание человеческих поступков.
Философский смысл антропологического измерения истории состоял в том, чтобы выявить зависимость между "качеством" человеческого материала и духовными параметрами бытия. Обосновать различия исторических судеб народов "инаковостью" биосоциальных ядер этнических культур, их суверенностью и автономностью по отношению друг к другу, несводимостью к единому знаменателю или тождеству в виде "производительных сил" или "законов классовой борьбы", в целом, социально-экономической детерминированности исторического процесса. Философия истории имеет отношение только к индивидуальной судьбе, оригинальному историческому развитию и его творцу, носителю определенной национальной идеи. Судить о других можно только со своих позиций и только с одной целью - лучше понять самое себя, определить себя в масштабе истории, но ни слиться с другими культурами (неевропейских народов) во всеобщую историю человечества ни войти в единое развитие человечества европейская культура не в состоянии. В истории, как и в политической жизни, действует один принцип - "каждый имеет право говорить только за самого себя и от своего имени".
Обращение к истории ментальностей необходимо было для того, чтобы вслед за редукционистским обоснованием исторического процесса материальным фактором "облагородить" историческую детерминацию новым "знаменателем", выступающим в роли универсального и все объясняющего в истории феномена. Если раньше история детерминировалась экономикой и производительными силами общества, то теперь всеобщим законом становилась обусловленность исторического процесса и социальных условий жизни Менталитетом. В результате человек попадал в "прокрустово ложе" ментальной предопределенности, которая выступала не в качестве рационального мировоззрения, а в роли мышления, своего рода базиса, характеризующегося чувственно-эмоциональным восприятием жизни, производным от "работы" подсознания. Человек опять-таки становился полностью зависимым теперь уже от генетического потенциала предков, от своего генофонда.
В философском плане это привлекало внимание к "качеству" исторического прошлого предков, от которого зависело настоящее. Предметом исследования становились все возможные проявления ментальности, главным образом область человеческой психологии, эмоциональная сфера жизни, устои быта, семейные и религиозные традиции, в целом, проявления ментальной жизни общества. "Образ" человека, усеченного, сведенного до чувственно-эмоционального восприятия жизни, обусловленного деятельностью бессознательного, проецировался на внешние объекты действительности и предопределял их особенности и свойства. Историософская мысль школы "Анналов" пыталась верифицировать положение человека в мире его ментальностью, усматривая в ней основное свойство идентичности. Человек мог обрести равенство "в себе самом", в отождествлении себя со своим мышлением, со своей ментальностью, но этого было явно недостаточно для его характеристики. В стороне оставалось мировоззрение - рациональная характеристика человека как антропологического явления всемирной истории.
Столкнувшись с проблемой рациональной интерпретации изменения обыденного сознания и соответствующего ему массового поведения, историки вынуждены были дифференцировать единую ментальность на различные ментальности, носителями которых были представители разных социально-профессиональных и этнических групп населения. Однако частная дифференциация, справедливая в отношении выявления референтных групп, инициирующих процесс изменения обыденного сознания в масштабе общества, не выдерживала критики, когда речь заходила о единой "европейской ментальности", обусловившей появление в разных странах практически одних и тех же институтов западноевропейской цивилизации.
Одной из первых работ, посвященных непосредственно истории ментальностей, была работа Жоржа Дюби1, использовавшего известную концепцию "длительных циклов" Ф. Броделя для временной характеристики ментальных процессов. Выделенные им три временных типа ментальное(tm) - скоротечный, среднепродолжительный и долготекущий, фактически, не колеблют тезиса о неизменности мышления во времени и характеризуют лишь психологические особенности индивидов, обусловленные, скорее, типом их темперамента, чем радикальными изменениями в подсознании.
Одни представители школы "Анналов" абсолютизировли значение ментальности как "коллективного сознания" (М. Блок), другие - видели в ней, по преимуществу, индивидуальное сознание, иллюстрирующее свое отношение к "коллективному" (Л. Февр). Как бы то ни было, изучение ментальности свидетельствовало об интересе к временным образам человека, своего рода историческом импрессионизме, стремящимся "остановить мгновение", чтобы восстановить исторически определенный способ "быть человеком". Необходимо, однако, отметить, что внимание к "маргинальным" или "периферийным" областям человеческой жизнедеятельности - обыденной жизни, бытовым характеристикам, девиантным проявлениям, к "бессознательному" в целом, как бы ставило под сомнение самое важное в европейской антропологической эволюции - собственно исторические типы рациональности и их судьбу. От исследователей ускользала целостность образа человека в истории, не подлежащая произвольному членению на рациональное и бессознательное, социальное и биологическое в нем. Как правило, историки ментальностей оперировали национальной аксиологией, мышлением, поведением, чувственно-эмоциональной сферой, основанием которых, по их мнению, служило бессознательное или культурно-исторические архетипы, словом все то, что идеологизировало историю, препоручая ей реконструкцию образа прошлого в соответствии с задачами сегодняшнего дня. Ментальность нередко трактовали как антитезу рациональности и интеллектуализму, усматривая в ней аутентичные черты и свойства национальной идентичности. Она стала полем идеологического противоборства между правыми и левыми в эпоху так называемого "дела Дрейфуса", когда правые толковали ее как национальное достояние, а левые усматривали в ней демократические ценности, прежде всего либерализм и терпимость французской нации. Эти, по-существу, разные трактовки национальной идентичности на самом деле были двумя сторонами одной медали. Если первая апеллировала к биологическому, эмоционально-чувственному, то вторая - к социальному.
Кому захотелось перечесть в подлиннике:
http://books.tr200.ru/v.php?id=247593
Название: Исторический синтез и школа "Анналов".
Автор: А.Я. Гуревич
Издательство: Индрик
Год: 1993
Размер: 8,8 мб
скачать с http://depositfiles.com/
скачать с http://letitbit.net/
Ссылки на сайты для скачивания книги:
http://depositfiles.com/files/y1dm76b8w
http://letitbit.net/download/8119.85f3765fa508cdfd308e6376f/ history387.rar.html
|
|
|
|
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28974 является ответом на сообщение #28973] |
вт, 03 мая 2011 01:48   |
ж-939-ж
Сообщений: 1463
Зарегистрирован: ноября 2009
Географическое положение: Russland
|
|
|
|
И о значении указанного метода для современности:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/olab_no vist.php
Олабарри И. "Новая" новая история: структура большой длительности
Источник: Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Выпуск 2. -Харьков: Константа, 2004. -230 с
Публикуется с любезного разрешения издательства "Блэквелл" и редакции журнала "История и теория" по изданию Olabarri, "New" New History: a Long Duree Structure, " History and Theory, vol. 34, #1, 1995.
Игнасио Олабарри
"Новая" новая история: структура большой длительности.
"Cogito, ergo historicus novus sum" Карл-Георг Фабер.
"Make it new!"
Эзра Паунд.
Как правило, историки историографии уделяли больше внимания отличиям и новациям в подходах среди историков, нежели сходствам и преемственности.[1] Однако, Фернан Бродель рассматривал, например, постоянное использование линейной перспективы в живописи, начиная с эпохи Ренессанса и до начала двадцатого столетия, как очевидный пример структуры большой длительности в сфере культуры.[2] Существуют ли до сих пор среди сегодняшних историков, несмотря на все их разногласия и сомнения, какие-нибудь предпосылки и основания, которых придерживались их коллеги столетием, а то и двумя, ранее?
Вначале я попытаюсь продемонстрировать определенную философскую общность тех историографических течений, которые с 20-х по 70-е гг. были (или пытались быть) новаторскими. Представляется, что помимо школы "Анналов", своего рода "флагмана" nouvelle histoire, определение "новый" применимо по крайней мере к марксистской историографии, американской социальной истории, группе историков вокруг британского журнала "Паст энд Презент", а также к "билефельдской школе" в Германии. Поскольку "новые истории", как показал Георг Иггерс[3], порвали, с ранкеанской парадигмой, я хотел бы выяснить, существует ли преемственность между ними и немецким Historismus, который ранее, собственно, и установил историческую дисциплину в качестве науки с собственным предметом исследования.
С постмодернистской точки зрения, однако, все "новые истории" заключены в рамку модернистской историографии; при этом начиная с 70-х, возникли разнообразные типы истории, которые стали рассматриваться в качестве постмодернистских, и, следовательно - в корне отличных от "новых историй". Во второй части я хочу показать, что между модерным и постмодерным историческим мышлением,
между "новыми историями " и "новыми новыми историями" в значительной мере сохраняется преемственность.
I. Historismus сегодня.
Важнейшим вкладом Historismus является первое отчётливое выражение основных центральных идей историзма: люди могут быть поняты только посредством изучения исторического процесса, а не абстрактного разума. Это положение установило разрыв между Просвещением [Aufklarung] и Historismus, хотя между ними и существует определенная преемственность, на которую стали указывать в последнее время.
Историография Просвещения (как, например, работа La Popeliniere двухсотлетней давности) была современной, однако, донаучной. Только последующие основатели немецкой исторической школы - Ранке и другие историки - преобразовали историю в самостоятельную науку со своим специфическим предметом изучения - человечеством. Так как, по их мнению, только с помощью этой науки можно понять развитие человечества, то именно история, а не философия, должна была стать основной "наукой о человеке". Претендуя на такой новый статус, историческая наука укрепила свои позиции (которые она уже занимала с XVIII в. Германии и Шотландии), как в университетах так и в академических учреждениях. Применение "исторического метода" к познанию человеческой реальности не было ограничен рамками политической истории Ранке, или Kulturgeschichte Буркхардта: право, язык, фольклор, хозяйство под влиянием немецкого историзма также превращаются в особые научные дисциплины.[4]
Как указал Брук Томас, сложное происхождение термина "историцизм" в английском (как и во французском, итальянском или испанском) языке означает, что оно применимо ко всем типам исторического метода. Так, по словам Томаса, "для описания общего смысла этого термина лучше всего вспомнить утверждение Фредрика Джэймсона о том, что историцизм указывает 'на нашу связь с прошлым, и на нашу способность понимать памятники, артефакты и следы прошлого'."[5] Таким образом, "историцизм", широко определяемый Иггерсом как "установка того, кто стремится найти в истории подступы к человеческой реальности" - это одно. И совсем иное - немецкий Historismus, который характеризовал мышление немецкой исторической школы, и который был, фактически, первой формой историцизма.[6]
Иггерс убеждён, что рождение немецкого "историзма" в начале XIX века стало, в куновском смысле, подлинной "революцией в историографии". И напротив, течения начала XX столетия, которые были предтечами "новых историй", хотя и преодолели ранкеанскую парадигму, не смогли образовать вторую "историографическую революцию": они вылились не в одну, а в несколько парадигм. Больше того, я хочу подчеркнуть, что в основании "новых историй" лежали те же самые идеологические и интеллектуальные "ориентации", что и в основе первых историографических достижений XIX века: герменевтической, номологической и марксистской традиций.[7]
С другой стороны, если мы примем точку зрения Георга Иггерса и Леонарда Кригера, тогда историцизм в той или иной степени присущ также марксизму и
позитивизму, через которые он оказал существенное влияние на представителей школы "Анналов"; последние, в результате, убеждены, что история должна быть королевой наук о человеке. Билефельдская школа является анти-историцистской лишь в той мере, в которой она отвергает классический историзм, т.е. особую форму историцизма, принятую и развиваемую немецкой исторической школой в течение последних полутора столетий. Однако, как в случае американских теоретиков социальной науки, никто, собственно, особо и не настаивал на тезисе о наличии универсальной и неизменной человеческой природы - скорее присутствовало обратное. Одним словом, сциентизм и историцизм совсем не обязательно противоположны друг другу; скорее, они стремятся к переплетению, как у Маркса и Конта.
Как добавляет Томас, их взаимосвязь даже еще более сильная, ибо, говоря об "историцистской" историографии, мы подразумевали ни что иное, как "новые истории". Следуя за Блуменбергом, Томас пишет: "Современное понимание реальности связано с развитием историцизма, которое основывается на новом представлении о времени, отличном от античного и средневекового. Современное представление о времени предполагает, что "события ... происходят не только в истории, но и в течение истории, в которой темпоральность стала составляющей реальности ... Иными словами, историцизм, продукт современного воображения, считает, что история будет твориться всегда. Как следствие, история историцизма отмечена постоянными претензиями на утверждение новизны".[8]
Если историцизм - это продукт "современного" воображения, то "постмодернизм" означал следующий шаг в историцизации человеческой реальности, что является одним из важных элементов скорее преемственности, а не разрыва, между современностью и постсовременностью. Как писал Кригер, "если месть сладка, то историцисты [от историков и философов начала века до постструктуралистов Фуко, Лакана и Деррида] продолжают испытывать удовольствие от того , что совершают историки как для утверждения, так и для опровержения релятивизма, присущего историцистскому подходу".[9]
II. "Новые истории" двадцатого столетия.
2.1.Распространение понятия.
В конце прошлого, и начале нынешнего века было предложено множество новых исторических подходов. Немецкий историк Карл Лампрехт в своей полемике против Ранке и его последователей, для характеристики своих идей обычно употреблял слово "новые".[10] Так, одна из наиболее дискуссионных его статей 1896 г. называлась "Старые и новые направления в исторической науке". Рецензия на лампрехтовскую "Историю Германии" в журнале "Американ хисторикал ревью" за 1897-98 гг. была озаглавлена "Особенности новой истории".[11] Однако, в США это понятие было впервые использовано для обозначения конкретного историографического движения, когда Джеймс Робинсон опубликовал книгу с таким же названием в 1912 году.[12] Спустя полвека, и снова в США, возникли новые школы, столь знакомые нам сегодня: "Новая экономическая история", "Новая политическая история ", "Новая социальная история " и т.д.
Во Франции философ Анри Берр - один из "отцов-основателей" школы "Анналов", широко пользовался этим понятием на рубеже столетий. В одной из первых своих публикаций, короткой статье вышедшей в "Ля нувель ревю" в 1890, он писал о необходимости "новой истории", или "новой исторической науки". В 70-е годы некоторые историки третьего поколения школы "Анналов" снова начали широко использовать понятие "новой истории". В предисловии к сборнику Faire de l'histoire, опубликованному в 1974 г. под редакцией Жака Ле Гоффа и Пьера Нора, понятие "новой истории" вновь пускается в научный оборот. В 1978 году, под руководством Жака Ле Гоффа, Роже Шартье и Жака Ревеля, издаётся энциклопедия, озаглавленная La nouvelle histoire.[13] Сам Ле Гофф, тогда уже член редколлегии журнала "Анналы", в пространной статье предложил читателям объяснение развития и общих черт "новой истории". По мнению Ле Гоффа, хотя уже Вольтера, Шатобриана, Гизо, Мишле и Симиана можно рассматривать в качестве вдохновителей нового направления, однако собственно традиция "новой истории" начинается с основания в 1929 году Люсьеном Февром и Марком Блоком "Анналов экономической и социальной истории". И включение в его редколлегию Фернана Броделя в 1946 г., когда Блока уже не было в живых, знаменовало возрождение замысла.
Ле Гофф считает, что Маркс, наряду с Пиренном и Хейзингой сыграли важнейшую роль в становлении "новой истории". Для Ле Гоффа и многих других "новая история" включает в себя всё, что не является "традиционным", или исходящим от XIX века; иначе говоря, всё то, что позволило исторической науке продвинуться вперед в ХХ столетии. В 1977 году английский историк Лоуренс Стоун также попытался ввести определение "новой истории", хотя уже через два года он пересмотрел свой взгляд на эту проблему.[14]
"Новая история, новая социальная история, новая интеллектуальная история: особенно сомнительно употребления прилагательного "новая" по отношению к истории", - говорит Рассел Джэйкоби. "Лучше бы нам, - пишет Дональд Р. Келли, - восстановить старые академические отношения между "гигантами и карликами". Каждое поколение открывает для себя свои горизонты, заявляя об их "новизне", или, величая "пост"; однако, эти перспективы могут быть расширены, а притязания на новизну умерены, если опереться на знания предшественников (или пренебречь им)".[15]
2.2.Истоки "новых историй" двадцатого столетия.
Основными направлениями "новой истории", которые вызвали в течение последних 50 лет настоящую революцию в историографии, являются следующие: школа "Анналов"; неомарксистская историография, особенно в её французской, английской и польской версии; широкая неоднородная группа историков, связанная с английским журналом "Паст энд Презент"; американская "социальная научная" история и, наконец, немецкая Gessellschaftsgeschichte, часто именуемая Билефельдской школой.
Если указанную революцию в историографии можно датировать приблизительно 1945 годом (а в Германии 60-ми), то "новые истории" имели своих старших предшественников, которые, в свою очередь, восходили к ещё более ранним теоретическим прототипам. В таком случае, корни "нового способа" понимания истории
уходят в интеллектуальную традицию первой половины ХIX века, очерченную Иггерсом, и влияние которой остаётся внушительным по сей день, не взирая на те воздействия, которые, как мы увидим, оказала постмодернистская мысль.
В марксистской историографии все разнообразные и порой взаимопротиворечивые версии неомарксизма нашего столетия исходят из наследия Карла Маркса. Эрик Хобсбаум выделил минимальный набор положений, который является общим для всех течений в марксистской историографии: главной функцией исторического исследования является анализ процессов общественного производства; изучение способов производства должно определить доминирующую систему общественных отношений, причём систему иерархическую, внутренне конфликтную, и постоянно изменяющуюся.[16]
Английский журнал "Паст энд презент" представляет собой смесь идей его основателей - английских историков-марксистов, - и приверженцев школы "Анналов", таких как Лоуренс Стоун и Дж. Элиот. В такой комбинации нет ничего удивительного, т.к. она характерна и для самих "Анналов".[17]
Американская "социальная научная история" также имеет очевидный прецедент в программе, сформулированной Джеймсом Робинсоном в книге "Новая история", которая была осуществлена "прогрессистским" направлением американской историографии. Огромное влияние на американскую новую историю оказал прагматизм. И, хотя последний действительно был единственным оригинальным философским течением "Made in the USA", также справедливо можно утверждать, что огромное влияние на неё оказали и идейные предшественники прагматизма - английский эмпиризм и эволюционизм.18
Основатели Билефельдской школы Gessellschaftsgeschichte во многом также нашли теоретический фундамент для своей работы в немецкой традиции XIX века. И хотя Лампрехт и Брейзинг, в большой мере испытавшие влияние Вундта, Маркса, а также позитивистской и эволюционистской теории, и уступили в горячем "диспуте о методе" в конце XIX века, многие их идеи получили ощутимое развитие в США и Франции. Но ещё важнее то, что совместное влияние ранкеанского герменевтического историцизма и новых, на первый взгляд, неприемлемых идей соединения социологии и истории, сделало возможным развитие социально-исторических концепций таких выдающихся учёных как Отто Хинтце или Макса Вебера, которые, наряду с Карлом Марксом, является идейными отцами Билефельдской школы.[19]
Когда Февр и Блок учредили в 1929 г. "Анналы экономической и социальной истории", они предложили также свою оригинальную, хотя и несистематизированную, теорию истории [20]; теорию скорее неявную, до известной степени эклектичную, и не во всём разделяемую обоими основателями журнала. Однако, все-таки ее можно рассматривать в качестве определенной программы всей школы "Анналов", ибо из двух ее основных принципов выстраивалась вся дальнейшая система: это убеждение в том, что объекты исследования конструируются самими историками, а целью исторического описания должна быть "тотальная история", что означало необходимость прямого сотрудничества с другими гуманитарными и социальными науками. Однако данная программа не была плодом объединённого гения двух французских коллег из Страсбургского университета после первой мировой войны. В действительности, у неё достаточно длинная родословная.
Первый принцип, согласно которому историки должны конструировать объекты своих исследований, является следствием того, что некоторые авторы - вроде немецкого исследователя Эксле, и итальянца Седронио, - называют "кантианским основанием" в мышлении основателей "Анналов"[21]. Те философы, которые оказали наибольшее влияние на их становление (Эмиль Дюркгейм, Анри Берр, и, возможно, Анри Бергсон), все принадлежали к школе ведущих французских неокантианцев последней четверти XIX в., школе Шарля Ренувье и Эмиля Бутру.
Что касается второго и более известного принципа школы "Анналов" (защиты histoire totale), то, как показали Жак Ревель и Роже Шартье, он был сформулирован в общих чертах задолго до формального рождения "Анналов" в статье Франсуа Симиана "Исторический метод и социальные науки", опубликованной в 1903 г. Симиан пытался показать идентичность предмета (социальных фактов) и метода, который должен позволить историкам построить свою работу сообразно труду социологов, экономистов и географов в рамках отдельной социальной науки, выстроенной по образцу предложенному социологией. Ревель и Шартье считают, что такой в принципе была и начальная программа "Анналов" 1929 года, но предложенная теперь уже историками, которые поставили в центр своего проекта не социологию, а историю.[22]
Но это только первый этап "интеллектуальной генеалогии", который я проследил подробнее в другом месте.[23] Во-первых, Симиан был непосредственным учеником Дюркгейма - главы французской позитивистской социологии, который, по выражению Саймона, "не только институционализировал социологию как полноправную академическую дисциплину, но и утвердил ее высший синтетический статус, прямиком восходящим к соответствующим положениям учения Конта".[24] Во-вторых, Анри Берр, чей журнал опубликовал статью Симиана, и который был первым покровителем и пожизненным союзником Февра и Блока, испытал воздействие обеих эволюционных теорий, неокантианства и витализма, а также рассматривал "исторический синтез" (первоначального предшественника тотальной истории) как "будущее философии".[25] В третьих, единственным профессиональным историком, кого Февр и Блок признавали своим учителем, был бельгиец Анри Пиренн, чьи работы, под влиянием Карла Лампрехта, также стремилась к связи прошлого и настоящего, развивали необходимость создания тотальной истории, а также подчеркивали важность социально-экономических и общественных проблем.[26]
В завершение беглого анализа историко-теоретических истоков школы "Анналов", хотел бы сказать следующее. Не смотря на то, что множество авторов - с большими или меньшими основаниями - усмотрели, среди многих прочих, влияние бергсоновского витализма, дильтеевской герменевтики, или даже веберовской теории, на формирование воззрений Февра и Блока, я убеждён, что совокупные свидетельства указывают на прежний вывод. Какие бы связи мы ни прослеживали, сколько отношений и их оттенков ни обнаруживали, мы приходим не только к кантианской эпистемологии, но и к контовскому позитивизму и спенсеровскому эволюционизму (столь существенных у Дюркгейма и Берра), утверждавших, что не существует значительной разницы в способах познания природы и способах изучения человека именно потому, что между человечеством и природой нет существенного онтологического различия.[27]
2.3. Общие черты всех "новых историй".
Существует ли устойчивый набор положений, общих для всех "новых историй": школы "Анналов"; неомарксистской историографии, группы "Паст энд презент"; американской "социально-научной" истории и Билефельдской школы? Йорн Рюзен усматривает, по крайней мере, два таких положения. Во-первых, "эта историческая перспектива перемещает фокус внимания от событий, как определенного результата целеполагаемого действия людей, к тому, что обуславливает само это действие - к непредсказуемой констелляции факторов и их систематические взаимосвязи". Во-вторых, "использование теоретических построений как средства исторической интерпретации".[28] Конечно, за последние годы многими историками делались такие же оценки, хотя и различными способами. Особенного внимания заслуживают работы Бернарда Бейлина и Лоуренса Стоуна.[29] Но, насколько я знаю, только один специалист по истории исторической науки, Эрнст Брейсах, провёл сравнение между двумя различными вариантами "новых историй": американской "новой историей" первой половины столетия, и "nouvelle histoire" школы "Анналов".[30] Я, со своей стороны, изложу те основные элементы, которые, по моему убеждению, присущи всем "новым историям".
1. Все "новые истории" разделяют убеждение в том, что история - это наука в её строгом понимании, т.е. что она сходна с так называемыми социальными науками, всегда видевших образец в естествознании.
2. Все разновидности "новой истории" считают необходимым постоянное сотрудничество с другими социальными науками; отмечая разницу их теоретических перспектив, история и социальные науки, тем не менее, по их мнению, имеют одну общую цель, а именно изучение человеческих обществ.
3. Цель достижения всеобъемлющего исторического объяснения особенно характерна для школы "Анналов" и историков-марксистов; но эта цель присутствует и у представителей Билефельдской школы, чью "историю общества" нужно рассматривать как попытку постичь "тотальную" целостность истории. Те же самые цели обнаруживают неопозитивизм, функционализм и бихевиоризм, оказавшие существенное влияние на американскую "социально-научную" историю. Однако, в отличие от "Анналов" во Франции, в США никогда не было подобного институциализированного центра, что делало невозможной координацию усилий в поисках единства социальных наук, и в объяснении социального целого.[31]
4. Все "новые истории" интересуются главным образом явлениями коллективного характера, в то же время не исключая полностью творческую роль индивидов. Так, говоря об "Анналах", Хью Тревор-Ропер определил глубокую философию этого движения как "социальный детерминизм, но с отличительной чертой: это социальный детерминизм, ограниченный и смягчённый признанием независимой человеческой витальности".[32]
5. Понятие "взаимовлияния" (Zusammenhang), используемое школой "Анналов", можно рассматривать как имеющее ту же философскую функцию, что и марксистское понимание базисно-надстроечных отношений, а также стремления объединить все факторы в единую "историю общества" Ганса Ульриха Велера и Юргена Кокки, основателей Билефельдской школы. В этом свете понятно обращение к структурализму всех "новых историй" в 60-70-е годы. Здесь также американская социально-научная история имеет менее определенный характер, если не в теории, то на практике[33]: с одной стороны, в силу крайне высокой степени специализации (и последующей разобщенности), а также, с другой стороны, отсутствия соответствующей организации, объединяющей тысячи социальных историков.
6. Поскольку во всех четырёх случаях история понимается как наука, то ее целью является получении если и не законов, то обобщающих утверждений с достаточно точным содержанием, позволяющих проводить аналогии через сравнение.[34]
7. Существенной чертой всех этих "новых историй" является диалектика настоящего и прошлого, с её способностью "предвидеть" будущее с помощью прогнозов и даже предсказаний. Всякое настоящее пишет своё прошлое, заглядывая в будущее .[35]
8. Все они допускают культурный и моральный, но не когнитивный релятивизм. Утверждение релятивизма является результатом историцистского понимания человечества как непрерывного потока самоизминений - в этом, как мы уже видели, "новые истории" разделяют основные идеи немецкого историзма.
9. С эпистемологической точки зрения, все новые истории являются посткантианскими, и в той или иной мере разделяют взгляд о том, что знание "конституирует" изучаемую действительность. В позитивизме и марксизме это можно четко увидеть, например, в учениях Огюста Конта, Карла Маркса, Дьёрдя Лукача, Луи Альтюссера, или лидеров Франкфуртской школы. Однако, это не верно для их популяризаторов. Уже первая марксистская "вульгата" от Фридриха Энгельса несёт на себе печать превращения в "реалистический" марксизм.
10. Наконец, все новые истории являются разновидностями модернистской историографии, в том смысле что они - или явно, или в силу лежащей в их основании философии - интерпретируют прошлое в соответствии с "идеологией освобождения" или понятием прогресса, двумя идеями, привнесёнными Просвещением. Это совершенно очевидная черта марксистской историографии, Билефельдской школы (на которую серьёзно повлияли теоретики Франкфуртской школы, особенно Юрген Хабермас), и американской "социальной научной истории". Все они пытаются предсказать то, что произойдет в будущем, или, как выражает эту идею Бенсон, пытаются "выработать всеобщие законы человеческого поведения, которые могут помочь людям определять альтернативные способы действия, доступные в определённых типах ситуаций, а также сделать рациональный выбор из альтернатив для достижения наилучших результатов"[199]. Это также в определенной степени характерно и для школы "Анналов". Как показал Брейсах,[36] даже если и существует огромная разница между абсолютной и несколько простодушной верой американской "новой истории" начала века в прогресс человечества, и более осторожной позицией "Анналов", всё равно у Февра и Броделя - при всех их оговорках и активное теоретическое неприятие всякой телеологической истории - можно обнаружить различные утверждения, покоящиеся на идее прогресса.
Таким образом, достаточно очевидны как общие основания всех "новых историй", так и определенные различия между номологической и марксистской традицией. Однако, за исключением Билефельдской школы - и то только отчасти, - все "новые истории" в 20-х 70-е годы XX века фактически отказались от герменевтической традиции, и не в последнюю очередь, потому что именно она была опорой "старой" или "традиционной" истории.
III. "Новые новые истории".
Как мы только что убедились, все варианты "новой истории" не только не выходят за рамки модернистской историографии, но и, по-видимому, пребывают в кризисе. В то же время, как и во многих других сферах, в последние двадцать лет бурный рост переживает постмодернистская альтернатива в историографии.
Фернан Бродель на семинаре, устроенном в его честь в ноябре 1985г., за месяц до своей смерти, охарактеризовал свое творчество как "новая история". Но, характеризуя работы Ле Руа Лядюри и других членов своей школы, он уже говорил о "новой новой истории". Гертруда Химмельфарб, классическая представительница традиционной историографии, начала статью о "новой истории" с такого замечания: "Впервые столкнувшись с данным предметом, новой историей, я думала, что понимаю, о чём идёт речь. Сейчас у меня нет такой уверенности. Вариации новой истории расплодились столь быстро ... и вся дисциплина настолько вышла за пределы прежней новой истории, что напрашивается выражение новая новая история". Уже в 1979 годе Лоуренс Стоун обнаружил фундаментальные изменения в природе исторических исследований, обозначив новой старой историей первые результаты этих изменений.[37]
Можно ли сказать, что эти "новые новые истории", "новые старые истории", или "новейшие истории" являются историографическим выражением идей постмодернизма? Если это так, то что отличает их от предшествующих различных версий "новой истории"? Заключено ли это различие в общей тональности историографического описания, как считал в 1979 г. Стоун?
Чтобы разобраться в этом вопросе, я кратко обрисую постмодернистские идеи в истории философии в целом, а также проанализирую те признаки, которые присутствуют в исторических трудах, являющихся, или претендующих быть названными, постмодернистскими. Я также хочу подчеркнуть преемственность - по-моему, весьма ощутимую - между "новыми историями" и "новыми новыми историями", между модернистской историографией ХХ столетия и историографией постмодернистской, возникшей в последние двадцать лет.[38]
3.1. Постмодернистское мышление в контексте истории философии.
Философские истоки "новых историй" могут быть найдены в философии Нового времени, как, например, концепции картезианского "рационалистического поворота", освободительной идеологии Просвещения, кантианской критике познания, контовском позитивизме и его наследии XX в. - марксизме или структурализме.
Но интерпретация философии Нового времени, которая исходит из картезианского рационализма, и потому считает "иррационалистический (и антиметафизический) поворот" последних ста лет полным разрывом с развитием философской мысли от Декарта до Маркса - такая интерпретация упускает из виду то, что составляло важнейшую черту философии Нового времени начиная с самого Декарта: особое значение воли, или, иначе говоря, субъективности, противопоставляемой классической установке "изумления" перед миром.[39]
Уже в XVIII столетии субъективизм философии Нового времени различим в рационалистических структурах, которые теперь затрагивают самую суть того, что мы называем "человечеством" и "обществом". "Идеология освобождения" трактует человека так же - как процесс непрерывного творческого самосозидания , выражаемый фигурой Фауста. Но эта "освободительная" цель Просвещения невозможна без предварительного выполнения насущной задачи: критики всего сущего, как предпосылки полного освобождения.[40]
Банкротство классических рационалистических философских систем эпохи Нового времени подготовило почву для широкомасштабной атаки на Разум, который был замещён верховенством Воли. Философский инструментарий субъективизма, освободительного идеала и критики всего сущего стал иным, но важнейшие принципы современной философии (субъективизм, критицизм, эмансипация) сохранились, и были доведены до крайности Ницше и поздним Хайдеггером.[41]
Помимо отдельных попыток восстановить престиж разума и/или бытия, ведущие течения в философии ХХ столетия пытаются тем или иным образом продолжить освободительную критику разума, рационализма, Просвещения на основе волюнтаристско-субъективистской позиции. С помощью чистых, последовательных актов воли "абсолютный разум", или "диалектика производительных сил", замещаются сведением реальности и разума к языку (начиная с философии Людвига Витгенштейна и аналитической философии, до "лингвистического поворота" 70-х), и последующим сведением языка к универсуму знаков без объектов или значений, выходящих за пределы самого языка. Теперь мы находим, как в структурализме, так и постструктурализме, "полное растворение" субъекта в такой мере, что его исчезновение становятся очевидным. Оно исходит из радикальной субъективности, не допускающей удостоверяющих критериев извне, даже от какого-либо философа, связанного с этими течениями. Вполне закономерно, что постмодернистская критика современности имеет явно выраженную "освободительную" направленность. Как тонко заметил Дональд Келли, "с философской точки зрения, понятие "деконструкции" лучше всего истолковать как окончательную "децентрацию" человеческой природы: то, что сделал Коперник в астрономии, Дарвин в биологии, Фрейд в психологии, Деррида пытается осуществить, по его уверениям, в языке".[42]
Если всё обстоит именно так, нам остаётся согласиться с тем, что так называемая постструктуралистская, или постмодернистская мысль, отрекаясь от большей части выводов философии Нового времени, в тоже время не осмеливается оспорить её основополагающие принципы.
3.2. Кризис истории в эпоху постмодерна.
В блестящей статье, опубликованной в 1990 г., Карин МакХарди, говоря о "кризисе истории" (что стало сегодня общим местом среди американских историков), провела принципиальное разграничение между "дисциплинарным кризисом" и "когнитивным кризисом" в исторической науке. Первый кризис характерен в первую очередь для социальной, культурной и политической истории, его корни находятся прежде всего в изменившихся взаимоотношениях между историей и социальными науками. Второй же кризис затрагивает интеллектуальную историю, критическую теорию и философию, концентрируясь в месте пересечения истории и литературы, и в особенности на проблемах, поднятых новыми лингвистическими теориями, рассматривающими основания человеческого понимания.43
Хотя различение, сделанное МакХарди, представляется полезным, я собираюсь обсудить оба этих кризиса в их единстве, поскольку многие вызвавшие их факторы в обоих случаях совпадают, и, более того, зачастую можно встретить признаки того и другого кризиса у одного и того же автора, или в одной книге. На этот двойной кризис в историографии большое влияние оказали разновидности постструктуралистской и постмодернистской мысли, на которые, несомненно, оказывают влияния соображения нефилософского характера. Мне кажется, необходимо учесть в первую очередь следующие обстоятельства, которые являются необходимыми условиями данного кризиса, однако не достаточны для его полного объяснения:
1. Увеличение объёма, и, как следствие, всё большая специализация деятельности историков [44], что угрожает потерей связей между историками, работающими с различными эпохами, странами или "территориями".
2. Убеждение многих групп историков в том, что "дисциплинарный кризис" не стоит оценивать негативно. С точки зрения "философии различий" и признания "уникальности особенного", историкам не всегда удается четко объяснить почему, например, история женщин или афро-американцев должна быть включена во всеохватывающую "мировую историю" или "историю США".
3. Противоречивая практика различных направлений "новой истории", исповедующих междисциплинарный подход (наглядный пример тому - "Анналы"), неизбежно приводит, как это продемонстрировали в начале 70-х Франсуа Фюре и Пьер Леон [45], к смычке всех сфер истории с наиболее близкими социальными или гуманитарными науками (экономической истории - с экономикой, социальной истории - с социологией, политической истории - с политическими исследованиями, и т.д.). При этом барьеры между отдельными историческими субдисциплинами все более увеличиваются, а идеал "тотальной истории" все более отдаляется.
4. Кроме того, как проницательно заметили представители школы "Анналов" Бернар Лепети и Жак Ревель [46], все большему сомнению подвергаются прежние общие установки, объединявшие все социальные науки, и дававшие надежду на возникновение единой общей социальной науки. На фоне сегодняшней неопределённости в отношении к будущему, все более широкое распространение получает убеждение в том, что попытки соединить изучение всех аспектов существования общества в рамках единой науки должны быть пересмотрены.
Эти сомнения происходят не столько из эмпирических и теоретических трудностей в создании "тотальной" истории [47], сколько из кризиса, поразившего все широкомасштабные и великие (по устоявшемуся мнению) научные концепции объяснения человеческого общества и окружающего мира; кризиса всех без исключения "измов" последних двух столетий. Этот кризис усугубляется невозможностью построения - в силу историцизма современного мышления - единой общепринятой философской концепции, способной поддержать идею универсализма и общей судьбы человечества.
5. Как следствие, все постмодернисты отказываются от универсалистского и "систематического" подхода к истории, выдвинутого эпохой Просвещения, и, более того, в принципе отвергают любые "метанарративы", к которым, по мнению Жан-Франсуа Лиотара, относятся все имплицитные философии истории, вращающиеся вокруг идей освобождения, прогресса и утопического переустройства общества, разделяемых большинством историков в последние два с половиной столетия.[48] Хорошее обсуждение этой установки можно найти в исследованиях Рейнхарда Козеллика, показавшего, что возникновение просвещенческого понятия "философии истории" в те же годы (между 1760 и 1780), когда начала совершать свои первые шаги коллективная история наций - не просто совпадение.[49] По словам Й. Рюзена, "История, этот идеал Просвещения, распадается на части в наших руках".[50]
6. Тенденция ко всё большей специализации, философии различий, и общий поворот к признанию культурной индивидуальности привели к тому, что, по утверждению Новика [51], донкихотская попытка создать большой исторический синтез становится практически неосуществимой:. А ведь необходимость синтеза до недавнего времени провозглашалась в качестве главной задачи сегодняшней историографии.[52] Отсутствие синтеза грозит разрушить и без того хрупкие отношения между профессиональными историками и образованной публикой.[53] Наконец, постструктуралистская мысль, в частности, идея деконструкции, лишают историю её внутренней согласованности, той связности внутренних отношений между событиями, которая принята научным сообществом в соответствии с прагматистской традицией. Отсутствие такой связанности и согласованности, по мнению Кригера, превращает историю в просто летопись или хронику.[54]
Лоуренс Стоун, как и многие другие, считает, что наибольшую угрозу для любого направления "новой истории" представляют ряд различных постструктуралистских течений, ставящих под сомнение не только различие между вымыслом и реальностью, но и факт существования любой внетекстуальной реальности. Даже столь разные авторы, как Лоуренс Стоун [55], Карин МакХарди [56] и Мартин Джей [57] практически единодушны, когда дело доходит до "идентификации" этих течений, к которым относят деконструктивизм Жака Деррида, герменевтику Ганса-Георга Гадамера, литературные критику Стэнли Фиша и Тони Беннетта, антропологию Клиффорда Гиртца, а также "Новый историцизм" Стефена Гринблатта.
V. Модернистская и постмодернистская историографии: преемственность и изменения.
Кажется несомненным, что историография испытывает влияние "теории" вообще, и философии в частности. Равно очевидно и то, что историческая дисциплина имеет свои динамику развития, связанную с её собственным предметом изучения, с её специфической традицией как дисциплины, а также контекстом, в котором протекает её деятельность. Однако всегда существовал относительно долгий временной разрыв между периодом процветания некоторой теории, и её воздействием на историографическую практику. Кроме того, обращение историков к теории или философии в их повседневной работе всегда избирательно, т.к. лишь некоторые аспекты новой "теории" они считают полезными, или же хранят верность прежней теории.[58] Можно достаточно уверенно заключить, что мы имеем дело с постмодернистской историографией, или ее влиянием, в следующих случаях:
1. Когда фрагментация объекта изучения рассматривается не в качестве препятствия, а в качестве необходимого условия исторического исследования. Так, микроистория может быть одной из форм постмодернистской историографии.
2. Когда существование внетекстуальной реальности оказывается под вопросом, независимо от выбранного объяснения; и когда анализ различных форм опосредования между автором и предполагаемой реальностью является центром внимания историографической работы, а в особенности, когда язык представляет важнейшую из этих форм опосредования. Эти установки могут варьироваться от "умеренного историцизма"[59], обычно покоящегося на прагматистской теории "исследовательских сообществ", до крайнего историцизма, который подчас трудно отличить от когнитивного релятивизма.[60]
Исходя из нашего основного тезиса о том, что в современной историографии различимы определённые линии преемственности, рассмотрим некоторые основные черты исторических исследований, создаваемых сегодня.
4.1. Настоящее и будущее "тотальной" истории.
Во-первых, конец "метанарративов" не означает конец "тотальной истории", отчасти потому что тотальная история и всеобщая история - не синонимичные понятия. Действительно, основатели "Анналов" верили в возможность создания "всеобщей тотальной истории"; и они предприняли ряд попыток создания такого исторического синтеза. Но можно было не дождаться появление "Бувинского воскресенья" Дюби и "Монтайю" Ле Руа Лядюри [61], чтобы понять, что цель "тотальной истории" может быть достигнута в разном масштабе: местном или региональном [62], национальном или всеобщем.[63] В недавней статье Ревеля и Лепти, которая может рассматриваться в качестве нового "официального манифеста" "Анналов", авторы не отказываются от проекта тотальной истории, а скорее переформулируют его, подчеркивая уже не широту, а именно глубину анализа. Каков бы ни был уровень последнего, по их мнению, задача исторического исследования всегда состоит в постижении социального взаимодействия как целого, которое достигается отнюдь не через простое накопление фактического материала или добавление новых данных.[64]
Очевидно, что эта "вторая версия" тотальной истории заметно отличается от версии первоначальной, в том числе и потому, что идея исторического синтеза и универсальной истории вынесен за рамки проблематики микроистории. Однако, мне все-таки кажется, что общее концептуальное ядро "Анналов" все еще продолжает сохраняться, и это позволяет нам говорить о "тотальной истории".
4.2. История, язык и постструктуралистская мысль.
Одна из наиболее широко распространенных черт историографии последних двадцати лет - это интерес к анализу языка: письменного и устного, символов и жестов, языка репрезентации, языка источников, языка историков и даже языка молчания. "Лингвистический поворот" [65], или шире, изучение всех форм опосредования между историками и их предполагаемыми объектами исследований, затронуло все области "новой истории". "Лингвистический поворот" связан главным образом с постструктуралистской мыслью, в первую очередь с именами Мишеля Фуко и Жака Деррида. Однако, возможно, было обращено недостаточно внимания на определенный разрыв между собственно основными идеями Фуко, и некоторыми частными аспектами его теории, которые вошли в обиход историков, начиная с 70-х годов. Фуко, известный историкам, - это не тот Фуко, в центре мысли которого находится язык как единственная реальность, которая действительно существует. Это не Фуко, отвергающий существование мыслящего субъекта, и замещающий "histoire globale" анализом слов, которые однажды уже были произнесены, и благодаря этому продолжающих существовать среди нас до сих пор. Это и не тот самый Фуко, утверждающий, что человеческая личность - это философский концепт, порождённый Модерном менее двухсот лет назад и находящийся ныне в процессе своего исчерпания. Это и не Фуко, провозгласивший смерть идеи человеческого бытия, которая, по его мнению, была придумана трансцендентальной и экзистенциалистской философией.
Мне не удалось найти в сегодняшней историографии примеров, которые бы изображали историю как без субъекта, так и без целей; историю, лишённую антропологического измерения, в которой люди были бы только результатами воздействия формирующих их сетей взаимоотношений; историю, в которой структурные изменения заменили бы собственно ее участников. Историков интересует тот Фуко, который обнажает знание как основание власти и подвергает "археологической" деконструкции идеи и институты, угнетающие человечество. То есть, это прежде всего Фуко в своей модернистской, критической и освободительной ипостаси.66
Так же и французский философ-деконструктивист Жак Деррида - это не тот Деррида, который существует для американских историков. Не только из-за различия интеллектуальных интересов, отделяющих философов или теоретиков литературы от историков. Но также потому, что, когда Деррида, и французский постструктурализм вообще, были "пересажены" на почву американской культуры, модифицировался исходный фокус их теоретизирования, будучи приспособленным к совершенно иному интеллектуальному климату Соединённых Штатов. По словам Шина Бёрка, "смерть автора ... неотделима от мощной реакции во Франции на воскрешение картезианского cogito в феноменологии Гуссерля. Поэтому французский структурализм и постструктурализм можно адекватно понять только как особенно изощренную форму антифеноменологизма. Но ситуация в англо-американской традиции в течение 60-х не могла не быть заметно иной. В то время как Деррида, Фуко, Лакан и др. чувствовали исчерпанность феноменологических категорий, а Барт настаивал на необходимости покончить с традиционно мощной институциональной властью автора во французской науке и культуре, антисубъективизм находился на обочине англо-американских исследований в силу продолжительного господства "Новой литературной критики".[67]
У Деррида, как у Фуко и Барта, связь между современностью и постсовременностью в конце концов выявила, что "неизбежно и исподволь происходит возвращение автора в практике анти-авторской критики", что "постструктурализм в общем, должен, хотя бы на уровне теории," "вновь повернуться к автору", потому что "он не смог обойти субъективность на уровне анализа". Как правило, "переписав канонические тексты, критик-постструктуралист продолжает создавать собственные тексты",[68] что на постструктуралистском уровне означает последовательную "эволюцию от вдумчивого читателя к переписчику, и от него - опять к писателю"[69]. Как у Фуко и Деррида, так и у других влиятельных авторов последних двадцати лет, мы имеем дело с замысловатой комбинацией современности (идеологическая борьба за освобождение угнетенных мужчин и женщин) и постсовременности (непринятие метанарративов, интерес к роли языка, понимание любого видения мира как репрезентации).
В истории "лингвистический поворот" и постструктуралистская мысль первым делом затронули своим влиянием теорию истории и интеллектуальную историю. Теория истории, которая берет на вооружение постмодернизм [70], сразу сталкивается с проблемой определения границ этого понятия, которое используется в самых разных значениях, и противопоставляется другим понятиям (модернизм, современность), для которых, в свою очередь, также существует немало значений и интерпретаций. Недостаточно будет просто перечислить авторов, которые то ли по собственному, то ли по чужому мнению, могли бы быть описаны в качестве постмодернистских.
Важнейшим моментом является здесь новый интерес историков к "нарративу", ("повествованию"), слову, которое, как мы видели, впервые появилось в названии цитированной выше статьи Стоуна уже в 1979 г. Хотя мы должны заметить, что первым крупным исследованием этого вопроса была работа вполне "традиционного" историка Дж. Хекстера [71]. Ганс Келлнер различает тех историков, для которых "рассказ является единственным показателем нарративности" (например, Барт, Деррида, Фуко или Сико), и тех, кто считает нарративность "одним из способов мировосприятия, внутри которого рассказ-история выступает в качестве отдельного жанра" (Рикёр, Анкерсмит, Рюзен).[72] В настоящее время наблюдается серьезный интерес к нарратологии со стороны литературной критики, а также интерес к выяснению отличий моделей повествования в литературе и истории. Однако еще более важным является то, что сторонники "повествования" как метода написания истории перешли в последнее время в наступление[73]. Развивая успех, некоторые из них претендуют на разработку некого нового варианта "исторического реализма", основанного на дискурсивной природе самой человеческой жизни [74].
В настоящее время полемика среди некоторых американских поклонников "новой интеллектуальной истории" еще более усилилась. Спор идет о том, существует ли внетекстуальная реальность или нет? Сохраняется ли различие между вымыслом и действительностью? Юджин Голоб пишет о "неограниченном релятивизме" Хейдена Уайта, а Питер Новик - о том, что позже назвали "риторическим релятивизмом" Уайта. Как уверяет нас Пол Лютцелер "в работах Хейдена Уайта эти границы [между литературой и историей] растворились"[75]. Но они не кажутся исчезнувшими, как не стоит забывать и жгучее стремление Уайта к "освобождению", отчетливо выраженному и в его тропологическом методе, и в интересе к социальной обусловленности работы автора. Следует помнить и парадокс, на который указали Эрмарт и Джэйкоби, - "формалистическое" мышлении и "позитивистский" язык такого постмодернистского автора, как Уайт [76].
В этой дискуссии часто упоминается и имя Доминика ЛаКапра, хотя он, по общему мнению, пытается сохранить определенные границы между литературой и историей. Но и в данном случае необходимо помнить о "модернистской" составляющей его интеллектуального подхода; не только из-за его позитивистского языка, но и благодаря основному объекту его интеллектуальной деятельности, тесно связанному с работами Деррида. По наблюдению Теуса, ЛаКапра заимствует у Деррида его "общий подход к производству и воспроизводству культурных смыслов, освободительскую, критическую позицию, демистифицирующую и опровергающую "конвенциональное" доминирование "единства и его аналогов"". По его мнению, "сходным образом, позиция Ла Капры имеет параллели с идеями Мегилла, для которого Деррида также выступает как освободитель от педантичных претензий эстетизма", и который также является одним из "новых интеллектуальных историков", чей "позитивистский" язык видится Джэйкоби столь парадоксальным [77].
В противоположность тому, что говорит о нём Замитто, Ганс Келлнер тоже не переходит черту, разделяющую вымысел и реальность. Как верный ученик Хейден Уайта, он видит задачу своей критической теории в освобождении и сопротивлении [78]. В одной из последних своих статей, Лайонел Госсман утверждает, что "совокупное влияние аналитической философии истории и деконструктивизма ... в сущности сводится к ставшему сегодня ортодоксией утверждению о том, что история - это лингвистический и риторический артефакт", и признаётся: "меня всё больше раздражает вольное и безответственное опошление того, что ранее было авангардистской позицией". Водораздел между вымыслом и реальностью почитается и Стефенном Банном, ценящим как "модернистских" мыслителей вроде Зигмунда Фрейда, так и постструктуралистов типа Ролана Барта [79]. Кроме того, я убеждён, что Лоуренс Стоун заблуждается, когда утверждает, что в работе Саймона Шамы "Полная определенность" [Dead Certainties] присутствует явное и нарочитое размывание разграничения фактов и вымысла [80].
"Новый историцизм", несмотря на утверждение многих исследователей, не есть шаг назад к литературной истории. Напротив, это движение - ещё одно проявление радикально историцистской установки постмодернистской историографии, отнюдь не отказывающейся и от своих теоретических притязаний. В действительности, как пишет Лютцелер, "в этом движении мы, в духе постмодернистской методологии, имеем дело с намеренно эклектичной амальгамой разнообразных подходов, уже доказавших свою жизнеспособность. Постмодернистский новый историцизм был бы самопротиворечив и непоследователен, будь он монолитным"[81].
В сфере социокультурной истории влияние "лингвистического поворота" и постструктурализма ощутимо меньше, нежели в интеллектуальной истории. Мы находим следы обоих направлений в работах по "культурной истории общества" Роже Шартье, на которого значительное влияние оказало творчество Фуко и труды таких социологов, как Пьер Бурдье и Норберт Элиас. Отсюда проистекает особое внимание Р. Шартье к анализу способов репрезентации действительности, а также учет всего многообразия форм взаимосвязи историка с объектом его исследования [82]. Идеи Деррида повлияли также на "женскую историю" Джоан Скотт, а также на некоторых других авторов. Однако, предупреждает нас Питер Бёрк, "если мы попытаемся более точно определить влияние деконструкции, постструктурализма и родственных течений, то окажется, что таких работ не очень то и много"[83].
"Лингвистический поворот", сам по себе имевший широкое, хотя и небесспорное влияние, затронул и другие области историографии, как например, "рабочую историю"[84]. Опять процитируем Бёрка: "небольшая группа историков (среди них Голо Манн и Карло Гинзбург), социологов и антропологов откликнулась на призыв Хейдена Уайта и начала экспериментирование с "креативным non-fiction", другими словами, повествовательными техниками, усвоенными у романистов или кинорежиссеров"[85]. Вот, почти и весь список, хотя следует не забывать, что - как мы убедимся в этом ниже - не деконструкция или постструктурализм, а главным образом герменевтика имела наибольшие последствия для постмодернистской историографии.
В любом случае, пока рано гадать как долго будет продолжаться эта тенденция, как далеко она зайдет в своем развитии и что будет итогом этого пути. Мы уже упоминали о временном разрыве между философией и историей. Сегодня очевидно, что наряду с развитием постмодернистской философии, одновременно закладывался и фундамент постмодернистской теории истории, и что постмодернистская историографическая практика заключает в себе как критический, так и экспериментальный опыт.
4.3. Микроистория, макроистория и постмодернизм.
Хотя то, что мы традиционно называем "синтезом", в микроистории осуществить невозможно, тем не менее, это направление не дотягивает до свойств "идеального типа" постмодернистской историографии. Хотя, конечно же, микроистория испытала воздействие "лингвистического поворота" и некоторых ключевых фигур постструктурализма, однако, в то же время, историки школы "Анналов", работающие в области микроистории, отвергают идею когнитивного релятивизма, и сохраняют уверенность в возможности, в известных пределах, познания реальности прошлого. Подобным образом, в работах по микроистории некоторых англо-американских
историков, специализирующихся в изучении культурной истории Европы Нового времени, также отвергается сведение истории лишь к языку и субъективности. Примером может служить ответ Натали Дэвис на жёсткую критику её работы "Возвращение Мартина Герра"[86]. Наконец, представители итальянской микроистории, следующие характерным методологическим нормам, связанным с деятельностью журнала Quaderni Storici, также настаивают, по словам Джованни Леви, на том, что "историческое исследование не является сугубо риторическим или эстетическим занятием", и специфический вклад этой школы в "новую историю" заключается как раз в отрицании "релятивизма, иррационализма и сведения работы историка к чисто риторической деятельности по истолкованию текстов, а не самих событий"[87].
Кроме того, следует помнить о том, что "макроистория" продолжала активно писаться в 80-е годы, и пишется сегодня. В нынешнее десятилетие расширилась практика сравнительной истории, которую Ле Гофф рассматривал единственно верным подходом ко всеобщей истории. В последние десять лет происходит активное возрождение исторической социологии, главные представители которой (Поланьи, Эйзенштадт, Бендикс, Андерсон, Валлерстайн, Бэррингтон Мур), как и используемые методы (в особенности сравнительный) достаточно хорошо представлены в недавнем сборнике под редакцией Теды Скочпол. Тем временем интенсивно развивалась и социологическая история, обсуждение которой предложено в книгах с такими красноречивыми заглавиями, как например, "Большие структуры, широкомасштабные процессы и гигантские сравнения" Чарльза Тилли, а также в коллективной работе под редакцией Оливера Зунтца, которая содержательно и теоретически родственна работе Скочпол [88].
Нельзя сказать, что мы являемся свидетелями сосуществования "микро-, и макроистории" в состоянии историографической "холодной войны". В одной из своих последних статей, Натали Дэвис продемонстрировала, что использование лингвинистической стратегии резко противопоставило между собой "классическую социальную историю" и "новейшую социальную историю", однако она допускает, что эти отличия были доведены да крайностей скорее из риторических соображений, при том, что в действительности между ними существует "множество точек пересечения". Дэвис заключает свой анализ отстаиванием насущной необходимости скорее не совмещения, а взаимодополнения обоих типов анализа, и призывает коллег обращаться к методам и объяснения, и повествования, которые наглядно выражают "взаимодействие и напряжение между большим и малым, социальным и культурным"[89]. Ясно, что перед нами новый тип современной историографии, отличный от классических вариантов "новой истории" тем, что она попыталась ответить на вызов как постструктуралистского "лингвистического поворота", так и символической антропологии Клиффорда Гиртца, выражавшей "интерпретативный поворот" 70-х.[90]
Таким образом, мы видим существенные различия между модернистской и постмодернистской историографией. Но существуют и весьма важные элементы преемственности: все разновидности постмодернистской историографии, как и все
предшествующие варианты "новой истории", ориентируются на междисциплинарность; и те, и другие стремятся к установлению взаимосвязи разноуровневых факторов, хотя и в разных масштабах и разными целями. Все они разделяют общий моральный и культурный релятивизм, но в историческом исследовании не приемлют релятивизм когнитивный, свойственный деконструктивизму и еще более, дезинтегративному текстуализму. Они все постоянно играют между прошлым и настоящим, между теорией и практикой, и их общим эпистемологическим полем, несомненно, является посткантианство. Самая замечательная черта этого непрерывного и длительного историографического тренда состоит в том, что обе его фазы до предела продвинули историцизацию бытия человека и общества, которая стала очевидной после превращения истории в самостоятельную дисциплину два столетия назад.[91] Воспользуемся ещё раз типологией Иггерса: если герменевтической традиции принадлежит гегемония в XIX столетии, которая затем, с возникновением "новой истории", перешла к марксистской и номологической традиции, то сейчас становится очевидным новое восстановление влияния герменевтической традиции в постмодернистской историографии.[92]
Не удивительно, что многие учёные, которые придерживаются самых разных взглядов, и обративших внимание на постсовременную мысль, пришли к общему заключению о том, что между модерном и постмодерном существует значительная преемственность. Среди самих постмодернистов, Лиотар прямо говорил о скрытом постмодернизме самой современности.[93] Выступая с марксистской позиции, Фредрик Джэймсон определил постмодернизм как новую "культурную логику позднего капитализма". В свою очередь, Ференц Фехер утверждает, что "постсовременность - это не отдельный исторический период, или эра, следующий за современностью как ее замещение, или отрицание. Это преобладающая тенденция поздней (или только достигшей зрелости) современности, заново критически переоценивающая свое прошлое"[94].
Описывая шеренгу тех, кто хотел бы преодолеть "парадоксы современности" и её принципов, будучи постсовременным, но не антисовременным, Александро Льяно заметил: "в культуре поздней современности наиболее важной является попытка продолжить модернизационный процесс, не замещая его важнейших оснований". Более того, он идет дальше и утверждает: "философами этого столетия, которые наиболее глубоко и последовательно размышляли и о современности, и о ее окончании, были, без всякого сомнения, Витгенштейн и Хайдеггер". После анализа последних, автор приступает к подробному обзору не только концепции Хабермаса, но и теории деконструкции, "поверхностных" рассуждений Ж. Ваттимо и П. Роватти, а также "вольных экскурсов в чистую власть" Фуко. По его мнению, эти авторы "снова и снова впадают в тавтологию, вращающуюся вокруг формулы quod erat demonstrandum ["что и требовалось доказать"]: если человеческое я полностью исчезло, то не существует ничего, кроме неотвратимой неизбежности такого исчезновения"[95].
Однако, утверждает Льяно, есть и не-модернистские установки, признаки некой "новой чувствительности"[96]. Как бы то ни было, разговоры о преемственности современности и постсовременности практически стали штампом.[97]
V. Заключение.
Из нашего поиска преемственностей, совмещённого с анализом расхождений и различий в историографии от Ранке до Шамы, можно заключить следующее. С одной стороны, историцизм присущ всем историческим школам последних двухсот лет, а постсовременность вырастает именно из модернистского типа мышления (начиная с Декарта и вплоть до Хабермаса, "последнего представителя Просвещения")[98]. Но, с другой стороны, очевидно, что нам сегодня не достаёт общего историографического проекта, который бы объединил значительное число историков из разных стран. Не существует одного "интерпретативного сообщества" историков, как нет фигур, подобных Ранке или Броделю, способных возглавить это сообщество. Как заключает Новик, в конце двадцатого столетия мы можем вторить словам Ветхого Завета: "нет царя в родном Отечестве"[99].
Чтобы действительно выйти за пределы современности, мы должны обладать метафизическим знанием о бытии и теорией познания, которые сделают доступным реальный мир, и послужат отправным пунктом для восстановления единого понимания человечества средствами философской антропологии.[100] Только таким путём можно организовать знание так, чтобы междисциплинарная деятельность не обернулась противоречивой по определению "междисциплинарной историей".[101] Это также единственный способ демаркации границ философского знания, разграничения наук гуманитарных и наук социальных, способный пролить свет на сходства и отличия их эпистемологического статуса, а также специфический предмет изучения каждой так, чтобы можно было бы избежать путаницы и дублирования.
Складывается впечатление, будто всё ещё только предстоит сделать, и адекватная форма для синтеза гуманитарного и социально-научного знания, не говоря уже об истории, пока еще не найдена. Тем не менее, история гуманитарных и социальных наук демонстрирует кумулятивный характер познания всех наук о человеке, не смотря на продолжительные периоды, когда исследовательский понятийный аппарат, методология и Weltanschauungen историков были откровенно ошибочными, или просто поверхностными. Как много лет назад сказал Э. Эванс-Причард, "теория может иметь эвристическую ценность, и не будучи истинной"[102].
Наиболее сложная задача, ожидающая нас в ближайшем будущем, состоит не в открытии новых сфер исследования, а в том, чтобы привести в порядок и заново осмыслить тот "компендиум различий", пополнение которого, по мнению Поля Вейна, и является целью исторической науки[103]. Сделать это можно, исходя из реалистической философской перспективы, о которой уже было сказано выше. Именно она, вместе с "переосмыслением и переоценкой" предшествующего исторического знания, поможет нам заново подойти к задаче создания всеобщей исто-
[195]
рии, идея которой, вопреки мнению Лиотара, уходит своими корнями отнюдь не в эпоху Просвещения (что ясно показал Момильяно), а есть, скорее, "сущностное проявление нашего двойного иудео-христианского и греческого наследия"[104]. Греки, евреи, христиане, а сегодня и множество людей самых разных цивилизаций, согласны в том, что существует некая общность между людьми всех культур и любых исторических периодов. Идея истории, рожденный эпохой Просвещения, является лишь одной из возможных моделей всеобщей истории, и ее специфические черты (секуляризированные метанарративы, идеология эмансипации, единое человечество в качестве главной движущей силы истории, вера в непрерывный прогресс) сегодня уже не могут удовлетворить нас. Могут и должны быть созданы другие модели всеобщей истории.
В наше время, ни люди западной культуры, ни люди незападных культур - которые во многих случаях объединяли свои космогонии и традиции устной истории с линейным и универсалистским мировидением западной культуры[105] - не могут обойтись без глобального объяснения прошлого, которое придает смысл настоящему, и прокладывает путь в будущее. Постмодернистская историография может послужить хорошим лекарством от чрезмерных или плохо усвоенных интеллектуальных амбиций, идущих от Гегеля, Конта и Маркса до Февра, Броделя, Велера, Бенсона и Вилара. Но если мы устраним, в привычной для постмодернистских теоретиков манере, любой смысл из эволюции нашего мира (или "миров") и нашего места в нём (в них), устраним историческое сознание и откажемся от результатов универсалистской традиции и опыта европейской культуры, то мы не сможем вдохнуть смысл в собственные труды, проще говоря, не сможем написать их.
Вопреки скептицизму постсовременности, по-прежнему верно звучат слова Леопольда фон Ранке и Марка Блока. Ранке - величайший историк девятнадцатого века - писал, что "конечной целью, пока ещё не достигнутой, всегда остаётся понимание и написание истории человечества"[106]. Блок, которого я считаю ведущим историком двадцатого столетия, говорит в "Апологии истории": "единственно подлинная история, возможная лишь при взаимопомощи - это всемирная история"[107].
Примечания
Я признателен профессорам К.-О. Карбонеллу, Д.Р. Келли, Ф. Анкерсмиту, Дж. Андрес-Галлего, Ф. Магике, Дж. Нубиоле, В. Санцу, Д. Иннерариту, и особенно проф. Й. Рюзену за множество ценных замечаний к наброску данной статьи. А без помощи Е. Стефенсон, А. Барэйбара и Ф.Дж. Капистегу, написание этой работы было бы просто невозможно.
1 Donald R. Kelly, Versions of History from Antiquity to the Enlightenment (New Haven, 1991). В этой антологии историографических текстов автор попытался продемонстрировать феномен "большой длительности" в исторической науке, особенно в развитии стилей исторических сочинений и используемом понятийном аппарате.
2 Проблему исследовал Пьер Франкастель: Pierre Francastel, Peinture et Societe (Lyon, 1951). Обсуждение см.: Ф. Бродель. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. М., 1977, С. 124-126.
3 Кроме прочих его работ, особенно см.: G.G. Iggers, New Directions in European Historiography (London, 1985), 19-30.
[196]
4 G.G. Iggers, "Historicism (A Comment)," Storia della Storiografia 10 (1986), 133.
5 Brook Thomas, The Historicism and Other Old-Fashioned Topics (Princeton, 1991), 3-4; цитата Джэймсона взята из его статьи: Jameson, "Marxism and Historicism," New Literary History 11 (1979), 43. К истории термина, см.: G.G. Iggers, The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present, 2d ed. (Middletown, Conn., 1983), 295-298; W. Morris, Towards a New Historicism (Princeton, 1979), 3-13.
6 G.G. Iggers, "Historicism (A Comment)," 131-144. О различиях между "ранним историцизмом" Ранке, или "историзмом", и "зрелым историцизмом" см. глубокую статью: L. Krieger "Elements of Early Historicism: Experience, Theory and History in Ranke," History and Theory, Beiheft 14 (1975), 1-14.
7 G.G. Iggers, New Directions in European Historiography (London, 1985), 31-41.
8 Brook Thomas, The New Historicism and Other Old-Fashioned Topics (Princeton, 1991), 32. Наиболее полное изложение взглядов Ганса Блуменберга на этот предмет можно найти в следующей его работе: H. Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age, transl. R.M. Wallace (Cambridge, Mass., 1983).
9 L. Krieger, "Historicism's Revenge" (1980), in L. Krieger, Ideas and Events (Chicago, 1992), 193. См. также: L. Krieger, Time's Reasons: Philosophies of History Old and New (Chicago, 1989).
10 K. Weintraub, Visions of Culture: Guizot; Burkhardt; Lamprecht; Huizinga; Ortega-y-Gasset (Chicago, 1966), 163.
11 E.W. Dow, "Features of the New History: Apropos of Lampreht's "Deutsche Geschichte'," American Historical Review 3 (1897-98). Вскоре после того, в декабре 1900 г., президентское послание Эдварда Игглстона к членам Американской исторической ассоциации получило заголовок "Новая история": см.: E. Breisach, "Two New Histories: An Explanatory Comparison," in At the Nexus of Philosophy and History, ed. B.P. Dauenhauer (Athens-London, 1987), 138; E. Schulin, "German and American Historiography in the Nineteenth and Twentieth Centuries," in An Interrupted Past: German-speaking Refugee Historians in the United States after 1933, ed. H. Lehmann and J.J. Sheehan (Washington, D.C., 1991), 16 and 18.
12 J.H. Robinson, The New History: Essays Illustrating the Modern Historical Outlook (New York, 1912).
13 La nouvelle histoire, ed. J. Le Goff, J. Revel, and R. Chartier (Paris, 1978).
14 Lawrence Stone, "History and the Social Sciences in the Twentieth Century," in The Future of History, ed. C.F. Delzell (Nashville, 1977), 20-27. Стоун приводит цитаты (p. 15) из спецвыпусков The Times Literary Supplement за 7 апреля, 28 июля и 8 сентября 1966 года, посвящённые теме "Новые подходы в истории" в качестве свидетельства того, что "новая история" дебютировала в этот период в его стране.
15 R. Jacoby. "A New Intellectual History?," American Historical Review 97 (1992), 424; D.R. Kelley, "Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect," Journal of the History of Ideas 48 (1987), 169.
16 E.J. Hobsbawm, "From the Social History to the History of Society," Daedalus 100 (1971), 20-45.
17 C. Hill, R.H. Hilton, and E.J. Hobsbawm, "Original and Early Years," Past and Present 100 (August, 1983), 3-14. Для выяснения взаимоотношений между школой "Анналов" и группой "Паст энд презент" очень показателен и важен факт, что следующая статья в этом юбилейном выпуске журнала написана Ле Гоффом, и посвящена большей частью отношениям британских историков со школой "Анналов": J. Le Goff, "Later Years", Past and Present 100 (August, 1983), 14-28.
[197]
18 См.: J.H. Robinson, The New History: Essays Illustrating the Modern Historical Outlook (New York, 1912); D. Gross, "The 'New History': A Note of Reappraisal," History and Theory 13 (1974), 53-58; R. Hofstadter, The Progressive Historians (New York, 1968); D. Ross, The Origins of American Social Science (New York, 1991); E. Breisach, American Progressive History: An Experiment in Modernization (Chicago, 1993). О связях между прагматизмом и "новой историей", и между последней и "новым историцизмом" см.: Brook Thomas, The New Historicism and Other Old-Fashioned Topics (Princeton, 1991).
19 См наиболее последнюю монографию о Лампрехте: R. Chickering, Karl Lamprecht: A German Academic Life (Atlantic Highlands, N.J., 1993). Подробности "спора о методе" в немецкой исторической науке см.: G.G. Iggers, The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present, 2d ed. (Middletown, Conn., 1983), 197-200; K. H. Metz, "Der Methodenstreit in der deutschen Geschichtswissenschaft (1891-1899): Bemerkungen zum sozialer Kontext wissenschaftlicher Auseindersetzungen," Storia della Storiografia 6 (1984), 3-20.
20 См.: M. Mastrogregori, Il genio dello storico: Le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e la tradizione metodologica francese (Rome, 1987), 24-28.
21 O. G. Oexle, "Marc Bloch et la critique de la raison historique," in Marc Bloch aujourd'hui: Histoire comparee et sciences sociales, ed. H. Atsma and A. Burguiere (Paris, 1990), 419-433; M. Cedronio, "Profilo delle 'Annales' attraverso le pagine delle 'Annales'," in M. Cedronio, F. Diaz, and C. Russo, Storiografia francese di ieri e di oggi (Naples, 1977), 18, 64-66.
22 J. Revel and R. Chartier, "Annales," in La nouvelle histoire, 30.
23 I. Olabarri, "La 'Nueva historia', una estructura de larga duracion," in New History, Nouvelle Histoire: Hacia una Nueva Historia, ed. J. Andres-Gallego (Madrid, 1993), 29-81. См. особенно с. 44-52.
24 W. M. Simon, European Positivism in the Nineteenth Century: An Essay in Intellectual History (Ithaca, 1963), 144-146.
Один из наиболее талантливых учеников Дюркгейма, С. Бугле, писал - по-моему, справедливо - что философия Дюркгейма была ничем иным как "философией Канта, дополненной философией Конта": "L'ouevre sociologique d'Emile Durkheim," Europe 23 (1930), 283.
25 M. Siegel, "Henri Berr's Revue de Synthese Historique," in History and Theory 9 (1970), 322-334, and "Henri Berr et la Revue de Synthese Historique," in Au berceau des Annales, ed. C.-O. Carbonell and G. Livet (Toulouse, 1983), 205-218. Программная же работа Берра - L'Avenir de la philosophie: esquisse d'une synthese des connaissances fondees sur l'histoire (Paris, 1899).
26 B. Lyon, Henri Pirenne: A Biographical and Intellectual Study (Ghent, 1974).
27 Разумеется, этим я не утверждаю, что социология Дюркгейма, идеи Берра, а также историография Лампрехта и Пиренна, а, следовательно, и "Анналов", могут непосредственно быть выведены из философии Конта или Спенсера. Мне просто хочется отметить, что историки испытывают не только влияние исторического контекста, в котором они живут, или особенностей современной им историографии; но также, в большей или меньшей степени, испытывают влияние как явно выраженных философских идей, так и внутреннего мировоззрения (Weltanschauungen) эпохи, и что это справедливо и для Люсьена Февра и Марка Блока, историков, всегда бывших открытыми (особенно Февр) для "теории".
28 J. Rusen, "Historical Enlightenment in the Light of Postmodernism: History in the Age of the 'New Unintelligibility'," History and Memory 1 (Spring-Summer, 1989), 116. Переиздание см.: Studies in Metahistory, ed. P. Duvenage (Pretoria, 1993), 226; "La historia, entre modernidad y postmodernidad," in New History, Nouvelle Histoire, 124; "'Moderne' und 'Postmoderne' als
[198]
Geschichtspunkte einer Geschichte der modernen Geschichtswissenschaft," in Geschichtsdiskurs: I. Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte, ed. W. Kuttler, J. Rusen, and E. Schulin (Frankfurt am Main, 1993), 21.
29 B. Bailyn, "The Challenge of Modern Historiography," American Historical Review 87 (1992), 1-24; Lawrence Stone, "History and the Social Sciences in the Twentieth Century," in The Future of History, ed. C. F. Delzell (Nashville, 1977)
30 E. Breisach, "Two New Histories," 138-156.
31 Вследствие растущей разделённости "гуманитариев" и "обществоведов" среди американских историков, в 1974 году была образована The Social Science History Association, и с 76-го начался выпуск её официальный журнал Social Science History. Однако, спустя пятнадцать лет, несмотря на оптимизм Куссе, её влияние всё еще невелико. См.: J.M. Kousser, "The State of Social Science History in the Late 1980s," Historical Methods 22 (1989), 13-20; A. G. Bogue, "Systematic Revisionism and Generation of Ferment in American History," Journal of Contemporary History 21 (1986), 135-162; A. G. Bogue, "Great Expectations and Secular Depreciation: The First Ten Years of Social Science History Association," Social Science History 11 (1987), 329-342; A. R. Clausen and J. J. Wu, "Social Science History: Citation Record," Social Science History 12 (1988), 197-215. В 1990 г., прокомментировав полемику историков, состоявшуюся в предыдущем году в "Америкен хисторикал ревью", Дональд Маклоски предложил отказаться от ошибочного разделения на "научную" и "не-научную" историографию: Donald McCloskey, "Ancients and Moderns," Social Science History 14 (1990), 289-304.
32 H. R. Trevor-Roper, "Fernand Braudel, the Annales and the Mediterranean," Journal of Modern History 44 (1972), 469.
33 Lee Benson, Toward the Scientific Study of History: Selected Essays (Philadelphia, 1971). В этом отношении данный автор недвусмысленно замечает: история - это "социальная наука, изучающая поведение людей прошлого таким образом, чтобы содействовать всеобъемлющему изучению человеческого поведения как в прошлом, так и настоящем" (с. 1).
34 См.: D. Landes and C. Tilly, History as Social Science (Englewood Cliffs, N.J., 1971), 9.
35 В случае с "Анналами" это утверждение можно оспорить. Основателей журнала интересовали в первую очередь публикации по современным проблемам, что очевидно из подборки Annales d'histoire economique et sociale, но этот интерес практически исчезает в Annales E.S.C. О раннем этапе, см. B. Muller, "'Problemes contemporaines' et 'hommes d'action'. A l'origine des Annales. Une correspondence entre Lucien Febvre et Albert Thomas (1928-1930)," Vingtieme Siecle 35 (July-September 1992), 78-91.
36 См. Breisach, "Two New Histories," 148-155.
37 См. Une le(on d'histoire de Fernand Braudel (Paris, 1986), 162, 221-222; G. Himmelfarb, "Some Reflections on the New History," American Historical Review 94 (1989), 661; L. Stone, "The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History," Past and Present 85 (November 1979), 1-24. In 1990 N. Z. Davis called it "newer history": See N. Z. Davis, "The Shapes of Social History," Storia della Storiografia 17 (1990), 28-34.
38 Многочисленные работы о постмодернистской историографии не проводят различий между постструктурализмом и постмодернизмом, и не пытаются исследовать их взаимосвязи; такая работа потребовала бы отдельного и обстоятельного разговора. Учитывая, что эти понятия употреблялись и употребляются во множестве смыслов, я для прояснения своей позиции счёл полезным присоединиться к утверждению Б. Тернера о том, что "можно быть пост-модернистом, не будучи анти-модернистом"; и что "если мы можем понимать пост-модернизм именно как после-, а не анти-модерн, то это расчищает почву для новых политических и социальных стратегий, которые учитывают различие, плюрализм и несоизмеримость различных
[199]
культур и ценностей": B. S. Turner, "Periodization and Politics in the Postmodern," in Theories of Modernity and Postmodernity, ed. B. S. Turner, (London, 1990), 11-12. Ещё один автор, ставящий даже более точный диагноз ситуации - это испанец Александро Льяно. См.: Alejandro Llano, The New Sensibility, transl. A. d'Entremont (Pamplona, 1991).
39 Вероятно, кого-то удивит заявление об особом значении воли в картезианской философии, но такой взгляд имеет ясные подкрепления в декартовских текстах, и был подробно исследован историками философии 2-й половины XX в.: см. F. Alquie, La decouverte metaphysique de l'homme chez Descartes (Paris, 1950); H. Gouhier, La pensee metaphysique de Descartes (Paris, 1962), 27-28; L. Polo, Evidencia y realidad en Descartes (Pamplona, 1963), 23-70; M. Gueroult, Descartes selon l'ordre des raisons (Paris, 1968), I, 324-328; N. Grimaldi, L'experience de la pensee dans la philosophie de Descartes (Paris, 1978), 194-246.
40 См. R. Spaemann, Zur Kritik der politischen Utopie (Stittgart, 1977).
41Cм. A. Megill, Prophets of Extrimity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida (Berkeley, 1985).
42 Kelly, "Нorizons," 157.
43 K.J. MacHardy, "Crisis in History, or: Hermes Unbounded," Storia della Storiografia 17 (1990), 5-27, на 5-й.
44 Phillip Curtin приводит красноречивый пример: в середине 50-х, в США было менее дюжины специалистов по истории Африки, а 1980 - уже около 600. P.P. Curtin, "African History," in The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United States, ed. M. Kammen (Ithaca, N.Y., 1980), 114-115.
45 F. Furet, "L'histoire quantitative et la construction du fait historique," Annales E.S.C. 26 (1971), 63-72, переиздана в F. Furet L'atelier de l'histoire (Paris, 1982); Pierre Leon, "Histoire economique et histoire sociale in France. Problemes et perspectives," in Melanges en l'honneur de Fernand Braudel (Toulouse, 1973), II, 303-315.
46 B. Lepetit and J. Revel, "L'experimentation contre l'arbitraire," Annales E.S.C. 47 (1992), 261-265. Указанная работа является ответом на упрёк, сделанный в адрес анналистов советским учёным Ю. Бессмертным в этом же номере журнала; они, по его мнению, отказались от идеала "глобальной истории". См. Y. Bessmertny, "Les Annales vues de Moscou," Annales E.S.C. 47 (1992), 245-259.
47 См. B. Bailyn, "Braudel's Geohistory-A Reconsideration," Journal of Economic History 11 (1951), 277-283; J.H. Hexter, "Fernand Braudel and the 'Monde Braudellien'...," Journal of Modern History 44 (1972), 480-539; H. Kellner "Disorderly Conduct: Braudel's Mediterranean Satire," History and Theory 18 (1979), 197-222.
48 J.-F. Lyotard, La condition postmoderne (Paris, 1979).
49 R. Koselleck, Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten (Frankfurt am Main, 1979), см. особенно гл. 2 первого раздела, и гл. 2 второго.
50 J. Rusen, "La historia entre modernidad y postmodernidad," in New History, Nouvelle Histoire, 125.
51 P. Novick, That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession (Cambridge, Mass., 1987), 577-592.
52 См. B. Bailyn, "The Challenge of Modern Historiography"; T. K. Rabb, "Toward the Future: Coherence, Synthesis, and Quality in History," in The New History: The 1980s and Beyond, ed. T. K. Rabb and R. I. Rotberg (Princeton, 1982), 315-332; T. Bender, "Wholes and Parts: The Need for Synthesis in American History," Journal of American History 73 (1987), 120-136; M. Kammen, "Extending the Reach of American Cultural History," in his Selvages and Biases (Ithaca, 1987), 118-153; C. Meier, Il mondo della storia (Bologna, 1991), 13-44, и др. Од-
[200]
нако, сегодня встречается и оптимизм по поводу исторического синтеза: см. Peter Burke, "Overture: The New History, its Past and Future," in New Perspectives on Historical Writing, ed. P. Burke (Cambridge, Eng., 1991), 19; I. Olabarri, "Un punto de vista sobre la historia social y sus perspectivas," in Lucha de Clases o Conflicto de Intereses? (Pamplona, 1991), 91-101; A. Prost, "What Has Happened to French Social History?," Historical Journal 35 (1992), 671-679.
53 T.S. Hamerow, Reflections on History and Historians (Madison, Wisc., 1987).
54 L. Krieger, Time's Reasons; J. Appleby, L. Hunt, and M. Jacob, Telling the Truth about History (New York, 1994).
55 L. Stone, "History and Post-modernism," Past and Present 131 (May 1991), 217-218.
56 См. K.J. MacHardy, "Crisis in History, or: Hermes Unbounded," Storia della Storiografia 17 (1990), 12-26, где даётся критическое изложение герменевтических взглядов Г.-Г. Гадамера, и деконструктивизма Ж. Деррида.
57 М. Джей, включает в то, что он называет "дезинтегративным текстуализмом" "Герменевтику I" (это Гадамер, и, в крайней форме, Стэнли Фиш и Тони Беннетт), "Герменевтику II" (символическая антропология Клиффорда Гиртца, который в последнее время довёл свои основные принципы до крайности), и деконструктивизм Деррида: M. Jay, "The Textual Approach to Intellectual History," in Fact and Fiction: German History and Literature 1848-1924, ed. G. Brude-Firnau and K.J. MacHardy (Tubingen, 1990), 77-86. Стоун указывает на опасности "Нового историцизма" в "Note" из цитированного источника, см. сноску 55.
58 M. Kammen, "Vanitas and the Historian's Vocation," из его Selvages and Biases, 88; G.G. Iggers, "Historicism (A Comment)," Storia della Storiografia 10 (1986), 135-136. Такое же наблюдение мы находим в рецензии Б. Фэя на книгу Маникаса "История и философия социальных наук": написать историю о гуманитарных и социальных науках, значит всегда учитывать связь между метатеорией, теорией и практикой; см. History and Theory 27 (1988), 295; P.T. Manicas, A History and Philosophy of the Social Sciences (Oxford, 1987). О связи между метатеорией и теорией, см. B. Fay, Critical Social Science: Liberation and its Limits (Ithaca, 1987), 42-65.
59 T.L. Haskell "The Curious Persistence of Rights Talk in the 'Age of Interpretation'," Journal of American History 74 (1987). В этой статье Хаскелл обращает внимание на некоторые наиболее впечатляющие достижения морального конвенционализма и умеренного историцизма, работы Джона Роулза и Томаса Куна; однако он с некоторым удивлением указывает, что Аласдэйр Макинтайр, который столь упорно отстаивал схожую точку зрения (особенно роль "интеллектуальной традиции") в книге "После добродетели", отвергает права как "творения людей, конвенции, противостоящие естественным или метафизическим вещам" (Haskell, "The Curious Persistence," 1001). А не может ли быть так, что идея "интерпретирующего сообщества" или "исследовательского сообщества" составили только временную и непрочную защиту против радикального историцизма? Если "ни один историцист не может быть уверен в том, что все права вечны и универсальны", то как мы установим чёткое различие между "историцизмом, который отождествляет себя со взглядом, что все требования прав неубедительны", и "умеренным историцизмом"? (Haskell, "The Curious Persistence," 1011). Позиция Макинтайра изложена в его книге "После добродетели", а также статьях , вышедших до и после нее. См.: А. Макинтайр, После добродетели. М., 2000; A. MacIntyre "Epistemological Crises, Dramatic Narrative, and Philosophy of Science," Monist 60 (1977), 453-472; A. MacIntyre Three Rival Versions of Moral Enquiry (Notre Dame, 1990); A. MacIntyre "Are Philosophical Problems Insoluble? The Relevance of History and Systems," in Philosophical Imagination and Cultural Memory, ed P. Cook (Durham, N.C., 1993), 65-82.
[201]
60 Наивлиятельнейший сторонник такого взгляда среди североамериканских историков, конечно, Ричард Рорти. Изрядное число историков-теоретиков, например, Д. Холлинджер, который как и Хаскелл, испытал влияние неопрагматизма, считает Рорти "'философом историков" - так же как и Куна; с последним его сближает артикулирование и защита за пределами цеха историков основных принципов историцизма, с которыми обычно согласны все историки". См.: D. A. Hollinger In the American Province (Baltimore, 1985), 167. Однако Дж. Теус видит проблему в том, "что, хотя историки могут быть склонны к принятию радикально историцистских взглядов на истину и ценности в своей непосредственной профессиональной работе, тем не менее, они гораздо более осторожно воспринимают историцистское отрицание трансцендентального основания в качестве всеобщей философии, которая применима и к их собственной деятельности глашатаев исторической истины и воссоздателей смысла прошлого, а также к их повседневной практике как культурных существ, которым необходимы космические основания их этических убеждений". См.: J. Toews, "Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreducibility of Experience," American Historical Review 92 (1987), 903. Почти все наиболее известные американские коллеги Рорти, включая тех, кто как и он заинтересованы в возрождении прагматизма, критиковали его за то, что один из них - Хилари Патнэм - назвал вечным тяготением к "дурному релятивизму": см. H. Putnam Realism with a Human Face (Cambridge, Mass., 1990). См. также: Charles Taylor, "Philosophy and History," in Philosophy in History, ed. R. Rorty, J. B. Schneewind and Q. Skinner (Cambridge, Eng., 1984), 17-30; A. MacIntyre, "Philosophy and Its History," Analyse & Kritik 1 (October 1982), 101-115; R. J. Bernstein, The New Constellation (Cambridge, Mass., 1992).
61 G. Duby, Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214 (Paris, 1973); E. Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 a 1324 (Paris, 1975). Понятие "локальной истории" как разновидности "тотальной истории" обсуждалось в следующих статьях: L. Stone, "History and the Social Sciences in the Twentieth Century," in The Future of History, ed. C. F. Delzell (Nashville, 1977), 26; M. Aymard, "Histoire et comparaison," in Marc Bloch: Histoire comparee et sciences sociales, ed. H. Atsma and A. Burguiere (Paris, 1990), 274-275.
62 Таков был подход, выбранный молодыми Февром и Блоком в ту пору, когда они ещё были учениками А. Берра, и Броделя (а также Лабрусса) в 1950-60-е гг..
63 Вплоть до 1985 г., программа школы "Анналов" виделась Броделю во включении всех гуманитарных и социальных наук в историю в качестве вспомогательных дисциплин. Как представляли себе основатели "Анналов", это был единственный путь достижения цели - разработки тотальной истории. Бродель различал "глобальную историю" ["histoire globale"] и "всеобщую историю" ["histoire universelle"], при этом он признавал возможность (или даже необходимость) создания "глобальной всеобщей истории". Подобная история могла быть написана в виде сравнительной истории цивилизаций: Une le(on d'histoire de Fernand Braudel (Paris, 1986), 162-163, 221-222. Февр и Блок придерживались такого же взгляда, и фактически руководили, или планировали крупные работы - ныне хорошо известные - по всеобщей истории. Для своей последней большой работы Бродель выбрал традиционный объект исследования - национальную историю Франции.
64 Во всяком случае, все увеличивающееся различие между "тотальной историей" основателей школы "Анналов" и "микроисторическим" подходом к прошлому, как и появление указанных выше книг Дюби (1973) и Ле Руа Ладюри (1975) только недавно вызвало ответные попытки со стороны "Анналов" "вклинить" этот новый подход к истории в традицию "Анналов": см. особенно редакционные статьи: "Histoire et sciences sociales. Un tournant critique?," Annales E.S.C. 43 (1988), 291-293; "Tentons l'experience," Annales E.S.C. 44
[202]
(1989), 1317-1323; "Histoire, sciences sociales," Annales. Histoire, Sciences Sociales 49 (1994), 3-4. Казалось, что в период с конца 70-х до конца 80-х и теоретическое основание, и авторитет журнала пришли в упадок. В те годы "школа ' Анналов'", если таковая вообще существовала, едва сохраняла какую-либо идентичность. См.: F. Furet L'atelier de l'histoire (Paris, 1982). О "распаде анналовской парадигмы", который произошёл, как показал Фюре, на вершине её развития, см. также: L. Hunt, "French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm," Journal of Contemporary History 21 (1986), 209-224; а также дискуссионную статью Роше о ситуации в французской исторической науке: D. Roche, "Les historiens aujourd'hui: remarques pour une debat," Vingtieme Siecle 12 (October-December, 1986), 3-20. См. также материалы международного коллоквиума ""Школа Анналов" вчера и сегодня" (Москва, 3-6 октября 1989): Rivista di Storia della Storiografia Moderna 14 (1993), 137-231; Споры о главном. Дискуссия о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы "Анналов". М., 1993.
65 Ричард Рорти, первый использовавший это выражение, оценивает его итоги в ретроспективном эссе: R. Rorty, "Twenty-five Years After,' in The Linguistic Turn (Chicago, 1992), 371-374. На самом деле создание данного выражения принадлежит не собственно Рорти (как он пишет), а Густаву Бергманну. См.: G. Bergmann, Logic and Reality (Madison, Wisc., 1964), 177. За эту информацию я признателен проф. Д. Келли.
66 См. A. Megill, "The Reception of Foucault by Historians," Journal of the History of Ideas 48 (1987), 118-141; P. O'Brien, "Michel Foucault's History of Culture," in The New Cultural History, ed. L. Hunt (Berkeley, 1989), 25-46. В своей статье Ж. Нориель утверждает, что творчество Фуко отнюдь не способстврвало междисциплинарности: G. Noiriel, "Foucault and History: The Lessons of a Disillusion," Journal of Modern History 66 (1994), 547-568. О противоречиях мысли Фуко см. D. C. Hoy, "Foucault: Modern or Post-modern?," in After Foucault, ed. J. Arac (New Brunswick, N.J., 1988), 12-41.
67 S. Burke, The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida (Edinburgh, 1992), 163.
68 Ibid., 7.
69 Ibid., 159.
70 Ф. Анкерсмит и Й. Рюзен являются двумя наиболее успешными авторами, которые очень ясным и теоретически емким образом разрабатывают теорию истории с точки зрения "постмодернистского поворота", что не есть, однако, тем же, что и постсовременная теория истории. У Анкерсмита следует выделить следующие основные работы: F. R. Ankersmit, Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language (The Hague, 1983); F. R. Ankersmit, "The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History," in Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate, ed. F. R. Ankersmit, in History and Theory, Beiheft 25 (1986), 1-27; F. R. Ankersmit, "Historiography and Postmodernism," History and Theory 28 (1989), 137-153 (включая последующую дискуссию между ним и П. Загориным в History and Theory 29 (1990), 263-296) а также: F. R. Ankersmit, The Reality Effect in the Writing of History (Amsterdam, 1989). У Рюзена следует отметить: J. Rusen, Grundzuge einer Historik, 3 vols. (Gottingen, 1983-1989); J. Rusen, Historische Orientierung (Cologne, 1994); J. Rusen, Studies in Metahistory, ed. P. Duvenage (Pretoria, 1993), а также статьи, цит. в сноске 28. Положения, выдвинутые в последней части статьи Аллана Меггила представляются мне поверхностными и необязательными: A. Megill, "Jorn Rusen's Theory of Historiography between Modernism and Rhetoric of Inquiry," History and Theory 33 (1994), 39-60.
[203]
71J. H. Hexter, "The Rhetoric of History," in International Encyclopaedia of Social Sciences, ed. D. L. Sills (New York, 1968), 368-394.
72H. Kellner, "Narrativity in History," в его Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked (Madison, Wisc., 1989), 294-323.
73Кроме библиографии, указанной в сноске 70, см. Beiheft 26 (1987) в History and Theory, названный The Representation of Historical Events, а также: P. M. Lutzeler, "The Discussion of Narration in the Postmodern Context," in Fact and Fiction: German History and Literature 1848-1924, ed. G. Brude-Firnau and K. J. MacHardy (Tubingen, 1990), 57-67.
74D. Carr, Time, Narrative, and History (Bloomington, Ind., 1986).
75E. Golob, "The Irony of Nihilism," History and Theory, Beiheft 19 (1980), 65; P. Novick, That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession (Cambridge, Mass., 1987), 603; P. M. Lutzeler, "The Discussion of Narration in the Postmodern Context," in Fact and Fiction: German History and Literature 1848-1924, ed. G. Brude-Firnau and K. J. MacHardy (Tubingen, 1990), 59.
76M. Ermarth, "Mindful Matters: The Empire's New Codes and the Plight of Modern Intellectual European History," Journal of Modern History 57 (1985), 518; R. Jacoby. "A New Intellectual History?," American Historical Review 97 (1992), 412-413, 418, 423. Возражения Уайта Лютцелеру, cм.: H. White, "The Absurdist Moment in Contemporary Literary Theory," in Tropics of Discourse (Baltimore, 1978), 261-282. Однако, позицию Уайта по этой проблеме следует пересмотреть в свете двух монографических выпусков (24, 1993 и 25, 1994), посвящённых журналом Storia della Storiografia двадцатилетию публикации Metahistory.
77J. E. Toews, "Intellectual History," 899; R. Jacoby. "A New Intellectual History?," American Historical Review 97 (1992), 413-419.
78 Ср. статью Замитто и Келлнера: J.H. Zammito "Are We Being Theoretical Yet? The New Historicism, The New Philosophy of History, and 'Practicing Historians'," Journal of Modern History 65 (1993), 799; H. Kellner, Language and Historical Representation, 333.
79 L. Gossman, "The Rationality of History," in Between History and Literature (Cambridge, Mass., 1990), 289; S. Bann, "Analyzing the Discourse of History," in The Inventions of History (Manchester, Eng., 1990), 32-63.
80О точке зрения Стоуна, см. 2-е прим. в L. Stone, "History and Post-Modernism," Past and Present 35 (May 1992), 194-192. Гораздо более интересные и конкретные суждения высказал Страут: C. Strout, "Border Crossing: History, Fiction and Dead Certainties," History and Theory 31 (1992), 153-162. См. также мою обзорную работу в I. Ollabari, La Historia en el 92, ed. J. P. Fusi (Madrid, 1993), 85-89. При анализе работы Л. Хант Филлип Стюарт обратил внимание на существование очень интересных междисциплинарных проблем в пространстве между литературой и литературной историей. См.: Lynn Hunt, The Family Romance of the French Revolution (Berkeley, 1992), Phillip Stewart, "This Is Not a Book Review: On Historical Usese of Literature," Jouranal of Modern History 66 (1994), 521-538 (с ответом Хант на стр. 539-546).
81 P. M. Lutzeler, "The Discussion of Narration in the Postmodern Context," in Fact and Fiction: German History and Literature 1848-1924, ed. G. Brude-Firnau and K. J. MacHardy (Tubingen, 1990), 66. Из этого видно, что возможны любые комбинации подходов. См.: The New Historicism, ed. H.A. Veeser (New York, 1989), а также более поздние публикации. Из наиболее известных примеров, приведу только три: влияние М.Фуко и К. Гиртца на С. Гринблата; П. Андерсона и Д. ЛаКапра на Л. Мотроуза; В. Беньямина и Ж. Деррида на
[204]
Ф. Лентриккия. См. дополнительно: J.A. Winn "An Old Historian Looks at the New Historicism," Comparative Studies in Society and History, 35 (1993), 859-870.
82 См.: R. Chartier, "Le monde comme representation," Annales E.S.C. 44 (1989), 1505-1520. О Шартье см. также: L. Hunt, "Introduction: History, Culture, and Text," in The New Cultural History, ed. L. Hunt, 7-10, 13-14.
83 J. Scott, "Women's History", in New Perspectives on Historical Writing, ed. P. Burke, 42-66; P. Burke, History and Social Theory (Cambridge, Eng., 1992), 121.
84 W. H. Sewell, Jr., Work and Revolution in France: The Language of Labor from the Old Regime to 1848 (Cambridge, Eng., 1980); G. Stedman Jones, Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832-1982 (Cambridge, Eng., 1983); P. Joyce, Visions of the People: Industrial England and the Question of Class, 1840-1914 (Cambridge, Eng., 1991); J. Vernon, "Who's Afraid of the 'Linguistic Turn'? The Politics of Social History and its Discontents," Social History 19 (1994), 81-97.
85 P. Burke, History and Social Theory (Cambridge, Eng., 1992), 127.
86 См. N.Z. Davis, The Return of Martin Guerre (Cambridge, Mass., 1983); R. Finlay, "The Refashioning of Martin Guerre," American Historical Review 93 (1988), 573-571, на которую и последовал ответ Дэвис. См.: N.Z. Davis, "On the Lame," American Historical Review 93 (1988), 572-603), который я считаю чрезвычайно убедительным и показательным в использовании "metier d'historien".
87 G. Levi, "On Microhistory," in New Perspectives on Historical Writing, ed. P. Burke, 93-113, на стр. 94-95. Однако, это отрицание релятивизма и сведение задач историка к чисто риторической деятельности остаётся лишь чисто волюнтаристским действием со стороны группы "пост-марксистов", не имеющих иного теоретического выбора, кроме уже ими сделанного.
88 Vision and Method in Historical Sociology, ed. T. Skocpol (Cambridge, Eng., 1984); O. Zunz, Reliving the Past: The Worlds of Social History (Chapel Hill, N.C., 1985); C. Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons (New York, 1984). См. обсуждение вышеназванных книг в журнале "Сошиал сайенс хистори": Social Science History 11 (1987), 1-62. Кроме того, см.: J.A. Banks, "From Universal History to Historical Sociology," British Journal of Sociology 40 (1989), 521-543; D. Smith, The Rise of Historical Sociology (Cambridge, Eng., 1991).
89 N.Z. Davis, "The Shapes of Social History," Storia della Storiografia 17 (1990), 28-34. На стр. 29 она приводит свидетельства таких "пересечений" микро и макроистории и у других авторов: М. Блока, Ле Руа Лядюри, В. Севелла, Л. Хант и П. Салинза. Здесь же можно упомянуть и последнюю работу Л. Стоуна: L. Stone, Broken Lives: Separation and Divorce in England 1660-1857 (Oxford, Eng., 1993). Дополнительность микро-, и макро-анализов подчёркивается и Ж. Ревелем: J. Revel, "Microanalisi e costrizione del sociale," Quaderni Storici 86 (August 1994), 549-575. См. также: Louise Tilly, "Connections," American Historical Review 99(1994), 1-22.
90 P. Rabinow and W. P. Sullivan, "The Interpretive Turn: Emergence of an Approach," in Interpretive Social Science, ed. P. Rabinow and W. P. Sullivan (Berkeley, 1979), 1-21. О влиянии "интерпретативного поворота" на историков, см.: R. G. Walters, "Signs of the Times: Clifford Geertz and Historians," Social Research 47 (1980), 537-56; A. Biersack, "Local Knowledge, Local History: Geertz and Beyond," in The New Cultural History, ed. L. Hunt, 72-96.
91 См.: The Historical Turn in the Human Sciences, ed. T. McDonald (Ann Harbor, 1992), и эпиграф Ф. Джэймсона "Always Historicize!", цитируемый Д. Келли: D.R. Kelley, "Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect," Journal of the History of Ideas 48 (1987), 168-169.
[205]
92О познавательном кризисе в исторической науке, см. выше о роли гадамеровской мысли (анализ МакХарди), и "дезинтегративного текстуализма" Гадамера, литературной критики, например, С. Фиша и Т. Беннета, и антропологов (К. Гиртц в анализе М. Джея).
93 J.-F. Lyotard, La condition postmoderne (Paris, 1979). "Модерность" мышления Лиотара хорошо видна в другой его работе: J.-F. Lyotard, The Differend: Phrases in Dispute, transl. G. Van Den Abbeele (Minneapolis, 1988). Кроме того, см. вдобавок Дж. Роуи, Д. Кэрролла, самого Лиотара, а также введение М. Постера в следуещей работе под редакцией последнего: Politics, Theory, and Contemporary Culture, ed. M. Poster (New York, 1993).
94 F. Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (Bloomington, Ind., 1986); F. Feher, "The Modern versus the Post-modern Political Conditions. Comparison and Contrast," in El giro postmoderno, ed. J. Rubio Carracedo (Malaga, 1993), 31.
95 Alejandro Llano, The New Sensibility, transl. A. d'Entremont (Pamplona, 1991)., 129-131, 136.
96 Двумя такими установками является отказ от современного антагонизма между человеком и природой, и преодоление разрыва научно-технического и гуманитарного дискурса. См. R. Spaemann, Das Naturlische und das Vernunftige (Munich, 1987); D. Innerarity, Dialectica de la Modernidad (Madrid, 1990); A. Llano, The New Sensibility, transl. A. d'Entremont (Pamplona, 1991). 106, 119-124, 143-233.
97См.: C. Jencks, "Post-Modern und Spat-Modern. Einige grundlegende Definitionen," in Moderne oder Postmoderne? Zur Signatur des gegenwartige Zeitalters, ed. P. Koslowski, R. Spaemann, and R. Low (Weinheim, 1986), 205-335; W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne (Weinheim, 1988); P. M. Lutzeler, "The Discussion of Narration in the Postmodern Context," in Fact and Fiction: German History and Literature 1848-1924, ed. G. Brude-Firnau and K. J. MacHardy (Tubingen, 1990), 57-59; S. Rosen, The Ancients and the Moderns (New Haven, 1989); R.B. Pippin, Modernism as a Philosophical Problem (Oxford, 1991). Общую картину различных позиций, противостоящих и симпатизирующих постмодернизму, принимающих или отвергающих преемственность между модернизмом и постмодернизмом, см.: B. Smart, "Modernity, Postmodernity and the Present," in Theories of Modernity and Postmodernity, ed. B. S. Turner (London, 1990), 14-30.
98 См. введение Р. Бернстейна в сборнике под его редакцией: Habermas and Modernity, ed. R. J. Bernstein (Cambridge, Mass., 1988), 31. Кроме того, смотри статьи М. Джея "Хабермас и модернизм" и "Хабермас и постмодернизм" в его книге: M. Jay, Fin-de-Siecle Socialism and Other Essays (New York, 1988), 123-148.
99 P. Novick, That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession (Cambridge, Mass., 1987), chapter 16. См. обсуждение книги в "Америкэн хисторикл ревью" и выступления Дж. Хекстера, Л. Гордона, А. Мегилла и особенно Д. Холлинджера: American Historical Review 96 (1991), 675-698 (тут же и ответ Новика на стр. 699-708). Из них всех, только Аллан Мегилл является - как и положено всякому образцовому постмодернистскому историку - столь же пессимистично настроенным, как и Новик.
100 Философская антропология должна принимать во внимание и "антропологическую историю", (как её называет Ариес), и "историческую антропологию": возьмём, к примеру, две формы исторической антропологии, существующие сегодня в Германии - одна более связана с культурной антропологией, а другая уходит корнями в философскую антропологию; см. их детальную разработку в: Historische Anthropologie: Der Mensch in der Geschichte, ed. H. Sussmuth (Gottingen, 1984). Я согласен с К. Моразе в том, что антропология является "главной дисциплиной среди всех наук о человеке", и что "путь, ведущий к согласию по поводу общей антропологии - это путь исторической антропологии": C. Moraze, La Logique de
[206]
l'histoire (Paris, 1967), 28-29. См. также: J. Rusen, Rekonstruktion der Vergangenheit (Gottingen, 1986), 56-65.
101 В редакционной статье "Междисциплинарная история" первого выпуска журнала "Интердисциплинари хистори" подчеркивается, что многие "лучшие исторические работы последних двадцати пяти лет выбрали именно междисциплинарный подход"; однако развитие "междисциплинарного подхода", или "междисциплинарных исследований" в исторических исследованиях не может привести к созданию некой "междисциплинарной истории", т.е. широкой "междисциплинарной дисциплины", которая сама по себе есть, как сказано выше, contradictio in terminis. См.: "Interdisciplinary History," Journal of Interdisciplinary History 1 (Autumn 1970), 3-5. Действительно, изначально проблема была чисто формальной: в американской историографии, "междисциплинарная история" - согласно определению Г. Риттера - это "историческое научное исследование, использующее методы или идеи одной, или более чем одной неисторическиой дисциплины". См.: H. Ritter, Dictionary of Concepts in History, (New York, 1986), 238.
102 E.E. Evans-Pritchard, "Anhtropologia social: pasado y presente (1950)," in E.E. Evans-Pritchard, Ensayos de anthropologia social, transl. M. Riveira (Madrid, 1974), 12.
103 P. Veyne, L'inventaire des differences (Paris, 1976). Но, в отличие от Вейна, я убеждён в том, что временная ось - неотъемлемое свойство всякой исторической работы, т.к. я считаю, что предмет нашей дисциплины определяет "позитивное" изучение этого измерения, присущего человеческой природе, её историчности, и поэтому, определяет также описание и объяснение темпоральных изменений. См.: I. Olabarri, "En torno al objeto y caracter de la ciencia historica," Anuario Filosofico 17 (1984), 167-172.
104 A. Momigliano, "Two Types of Universal Histories: The Cases of E. A. Freeman and Max Weber," Journal of Modern History 58 (1986), 235.
105См., например:G. W. Trompf, "Macrohistory and Acculturation: Between Myth and History in Modern Melanesian Adjustments and Ancient Gnosticism," Comparative Studies in Society and History 31 (1989), 621-648, and L. Poyer, "History, Identity, and Christian Evangelism: The Sapwahfik Massacre," Ethnohistory 35 (1988), 213-233. На эту же тему см. две проницательные статьи: T. Asad, "Are There Histories of People Without Europe?," Comparative Studies in Society and History 29 (1987), 594-607, and M. Sahlins, "Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World History," Journal of Modern History 65 (1993), 1-25.
106L. von Ranke, "Fragment from the 1860s," in The Varieties of History, ed. F. Stern (New York, 1972), 61. Оригинальное название отрывка, взятого из 4-го тома его полного немецкоязычного собрания сочинений, называется "Die Notwendigkeit Universalgeschichtlicher Betrachtung". См.: L. Krieger, Ranke: The Meaning of History (Chicago, 1977), 288 and 382.
107 М. Блок. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986, С. 29.
(Перевод с англ. Славы Садовникова)
http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/metoden.htm
Н. C. РОЗОВ
«Спор о методе», школа «анналов»
и перспективы социально-исторического познания.•
Опубликовано в журнале: Общественные науки и современность, 2008, №1. С. 145-155.
Должны ли социальные и исторические науки строиться по образцам естествознания? Есть ли методологические единство наук с эмпирическим базисом, либо следует автономно развивать исследовательскую методологию в каждой отдельной области?
Разногласия в ответах на такого роды вопросы составляют знаменитый Methodenstreit — «спор о методе», который хоть и имеет достаточно давнюю историю, но отнюдь не разрешен до сих пор, более того, несмотря на временные затишья, продолжает вспыхивать новыми яркими интеллектуальными баталиями.
Предыстория спора
Ситуацию возникновения Methodenstreit во второй половине XIX в. определяют грандиозные успехи естествознания и агрессивная экспансия естественнонаучной методологии на философскую и социально-гуманитарную область.
Более широкий контекст спора — драматические отношения между философией и наукой, а также разными научными дисциплинами в XIX в. В этот период бесспорное интеллектуальное лидерство захватили немецкие университеты, которые хоть и принадлежали разным государствам (до объединения Германии Бисмарком в начале 1870-х гг.), но были тесно связаны как между собой, так и с другими интеллектуальными центрами Европы.
Р.Коллинз называет эту эпоху «послереволюционной», имея в виду академическую (университетскую) революцию, начавшуюся в начале XIX в. в Пруссии и состоявшую в соединении организационной модели средневекового университета с новыми научными дисциплинами [Коллинз, 2002, с.827-858].
Уже 1850-х гг. немецкая университетская философия, в которой главную скрипку играл гегельянский идеализм, пережила идейный и организационный удар со стороны материалистического естествознания (линия, возглавляемая Бюхнером, Фохтом и Молешоттом и известная у нас под именем «вульгарного материализма»). Новые физические, химические, биологические, геологические кафедры и факультеты появлялись во многом за счет отъема философских ставок. Философия выжила и вновь стала процветать во многом благодаря обращению к неокантианству — углубленному анализу гносеологических и методологических вопросов научного познания.
Быстрые и впечатляющие успехи в получении позитивного знания в новой экспериментальной психологии породили нечто подобное «головокружению от успехов». Три главных идейных оружия экспансии — материализм, позитивизм и эволюционизм — набирали силу и авторитет.
История, философия, логика, словесность, право представлялись устаревшими схоластическими умствованиями, которые должны быть заменены положительным знанием, основанным на закономерностях, выявляемых согласно прогрессивным канонам и методам естественных наук. Если же что-то такому подходу не поддается, то оно должно быть попросту отброшено как досадный реликт отжившей средневековой схоластики.
Следует отметить, что сами ученые гуманитарии (историки, лингвисты, литературоведы) были более или менее защищены от такого рода нападок благодаря собственной институализации (кафедры, факультеты, специализированные журналы). Большой и дисциплинарно рыхлый философский факультет в большинстве немецких университетов оказался гораздо менее защищенным от «естественнонаучного империализма».
Более слабая философская традиция, может быть, и поддалась бы такому давлению (как деморализованная отменой марксизма постсоветская философия шаг за шагом сдает позиции новой университетской технократии и прагматизму). Однако немецкое философское сообщество второй половины XIX в., прежде всего, доминировавшее неокантианство, было сильно не только прекрасной историко-философской подготовкой и высоким уровнем постоянно ведущихся интеллектуальных споров, но также постоянной обращенностью к наукам, к обоснованию знания и границам дисциплин.
Первый этап Metodenstreit — различение наук по предмету и методу
Контрудар выразился в появлении в 1883 г. первого тома книги Вильгельма Дильтея «Введение в науки о духе», идеи которой позже были развиты в «Описательной психологии» (1894 г.) [Дильтей, 1987; Дильтей, 2000]. Главная тема этих книг — различение Geisteswissenschaften («науки о духе» – перевод термина «moral sciences» Милля) и Naturwissenschaften («науки о природе»).
Таким образом, науки различались Дильтеем по предмету, причем предмету должен соответствовать метод. Эксперименты, выявление численных закономерностей, причинное объяснение, выведение и проверка формул — все эти методы подходят только для «наук о природе», изучающих внешние, объектные, лишенные духа фрагменты природы. В «науках о духе» такие подходы бесполезны и бессмысленны. Дух может быть исследован только как дух, не внешним, а внутренним образом, он должен быть понят. Отсюда знаменитое различение Verstehen (понимания) от Erklären (объяснения) как визитная карточка данного, идущего от Дильтея подхода в философии и методологии социогуманитарных наук.
Будучи одним из отцов «философии жизни», Дильтей также подчеркивает «тотальность», «целостность», «жизненную полноту» духовной стороны человеческого существования. При всем этом, «духовное» понималось Дильтеем как сознание, познающая, интеллектуальная сторона которого дополнялась переживаниями, надеждами, страхами и т.п. Поскольку предметным изучением сознания всегда занималась психология, Дильтей вслед за Юмом и Миллем пытается выстроить все здание гуманитарных наук на психологической платформе.
Здесь обнаруживается существенная трудность. Благодаря Вундту и его ученикам бурно развивается экспериментальная, численная, объяснительная психология, построенная как раз по естественнонаучным канонам. Неприятный парадокс: главная, базовая «наука о духе», а развивается (причем успешно) как самая заядлая «наука о природе».
В 1887 г. появляется и сразу завоевывает авторитет книга основателя немецкой социологии Фердинанда Тённиса «Gemeinschaft und Gesellschaft». Тённис попросту отказывает истории в праве называться наукой, строит классификации и выводит закономерности вполне в духе естественнонаучных канонов. Таким образом, уже две «науки о духе» — психология и социология — заявляют о себе как классифицирующие, объясняющие и выявляющие законы, а вовсе не «понимающие».
На борьбу с этой трудностью, собственно, и была направлена «Описательная психология» (1894 г.). Дильтей выдерживает и развивает то же различение наук по предмету. Граница проводится между внешним подходом естественнонаучной психологии, способной, подобно всем другим «наукам о природе», изучать только отдельные однозначно определенные элементы (например, «идеи» или «ощущения») и строить гипотезы относительно связей между ними, и новой описательной психологией, которая через понимание — внутреннее восприятие — получает доступ к реальной и самодостаточной целостности душевной жизни. Согласно Дильтею, все духовное и человеческое дано непосредственно, нужно только найти адекватные средства фиксации этого опыта, тогда как все природное отдалено и отчуждено от человека, что и обусловливает апелляцию к бесконечным гипотезам, формулам и закономерностям.
В том же 1894 году выходит в свет книга Вильгельма Виндельбанда «История и наука о природе». Виндельбанд продолжает тему принципиального различения наук и сосредоточен на том же затруднении: психология изучает явления духовной сферы, но строится и развивается в соответствии со стандартами естествознания — «наук о природе». Ход Виндельбанда состоит не в расщеплении предметов познания, а в обращении к специфике познавательных методов. Один и тот же предмет может изучаться разными науками, важно какими методами при этом пользуются исследователи.
Так возникает знаменитое, используемое до сих пор различение номотетики и идиографии. Науки, преимущественно использующие номотетический метод, ищут общие закономерности, пользуясь для этого экспериментами, статистикой, постановкой и проверкой гипотез. Науки, предпочитающие идиографический метод, сосредоточены на описании единичных и неповторимых явлений. Виндельбанд не привязывал жестко методы к наукам: так, исторические науки о природе могут использовать идиографические методы, а в истории каждое событие может быть понято только в контексте общих – номотетических представлений об истории. Особое внимание Виндельбанд как один из создателей ценностной философии (Wertphilosophie) обращал на значимость идиографических описаний, их связь ценностями [Виндельбанд, 1996].
Ученик Виндельбанда Генрих Риккерт в книге «Границы естественнонаучного образования понятий» (1896 г.) показал, что в различении номотетики и идиографии реально скрыты два критерия:
1) между генерализующим и индивидуализирующим подходом к образованию понятий
2) между оценивающим и неоценивающим мышлением.
Риккерт также предложил вместо «наук о духе» говорить о «науках о культуре» («культуроведении») — прямом аналоге не культурологии, но всего комплекса социогуманитарных наук [Риккерт, 1998]. «Науки о культуре» суть взгляд на мир через тотальную отнесенность к ценностям, тогда как «науки о природе» рассматривают мир в отношении к законам и закономерностям. Риккерт как бы «снимает» противоположность между номотетикой и идиографией, поскольку и индивидуальное поведение (предмет идиографии), и обнаружение законов (номотетическое исследование) равным образом подчиняются ценностному долженствованию. Важное отличие позиции баденцев (Виндельбанда и Риккерта) от Дильтея состояло также в их признании рациональности как номотетического, так и идиографического (индивидуализирующего) подхода, поскольку изучается одна и та же объективная действительность, только с разных точек зрения.
Несмотря на попытки баденской школы смягчить противопоставление наук, их идеи были восприняты в сугубо дильтеевском ключе как конфронтация номотетики и идиографии. Видимо, этому нимало послужила «Философия истории» Риккерта, утверждающая неизбежный индивидуализирующий характер как науки истории, так и философии истории, причем написанная в более простом полемическом стиле, чем философски изощренное «Введение в трансцендентальную философию».
При этом, как это ни странно, большинство «наук о духе» обретали идентичность именно как ищущие закономерности, т.е. номотетические. Сам спор стал угасать. Первый этап Methodenstreit завершается в первом десятилетии XX века.
Причины временного угасания спора систематически никем еще не исследованы. Разумеется, есть общая макропричина — Первая мировая война, но и ее влияние на судьбу Methodenstreit следует прояснить. Следующий довольно бурный этап начался только в середине века. Между этапами спора проходит полоса затишья. Характер этого периода и должен помочь в выявлении причин завершения первого этапа.
Первая половина XX в. – затишье в споре
На стороне естествознания, математики и философии науки основное движение направлено уже не на экспансию в новые социогуманитарные области, а на сосредоточение на собственных проблемах максимально строгого обоснования научного знания. Это движение в сторону большей точности, строгости и обоснованности объединяет Эрлангенскую программу Ф.Клейна и Гильберта в математике, логицизм Фреге, Рассела и раннего Витгенштейна, попытку Гуссерля построить философию «как точную науку», венчается великими достижениями и не менее великими провалами Венского Кружка.
Научная психология обретает свою интеллектуальную идентичность в традиции Вундта, но не Дильтея: в экспериментальной практике, но никак не в чистых толкованиях и описаниях. Бихевиоризм Уотсона и теория условных рефлексов Павлова — лишь самые громкие примеры применения естественнонаучной методологии в изучении психики, причем довольно успешного и до сих пор развивающегося.
На начальных этапах Фрейд со своим базовым физиологическим образованием также строил психоанализ, ориентируясь на естественнонаучные каноны. Последующие волны психологических учений (гештальтпсихология, вюрцбургская школа, теория поля К.Левина, культурно-историческая школа Л.С.Выготского, генетическая психология Ж.Пиаже, теория деятельности и др.) отвергали ассоцианизм и бихевиоризм, но сохраняли верность научному экспериментированию, оставив втуне проект описательной психологии Дильтея.
В начале XX в. набирают силу французская позитивистская социология, английская и, позже, американская антропология. Ценностный подход Виндельбанда и Риккерта воплотился в социологии Вебера, Томаса и Знанецкого, Парсонса, но ценности во всех этих случаях существенно приземлялись: упор делался на их разнообразии и изменчивости, но никак не на принадлежности особому вечному миру. Самых внушительных успехов достигают строгие научные направления в сфере словесности: структурная лингвистика Ф. де Соссюра, фонология Якобсона и Трубецкого, структурная поэтика Проппа, Барта и др., структурный анализ мифов Леви-Стросса.
Чем же было вызвано затишье в споре? Общий ответ парадоксален: спор угас в силу развития тех же процессов, которые привели к его началу. Действительно, начальная экспансия методологии естествознания на социогуманитарную область определялась достигнутыми престижными образцами строгости и обоснованности точных наук. Продолжающееся движение в сторону предельной строгости и обоснованности (логицизм и логический позитивизм) обнаружило глубокие затруднения в самой сердцевине точности и строгости — математике, логике и позитивном научном языке. Тут уже все силы стали направляться на разрешение найденных парадоксов (из которых самый известный – парадокс Рассела) и трудностей (недостаточность протокольных предложений и проч.).
Процессы институализации новых «наук о духе» (психологии, социологии, антропологии, политических наук) вначале весьма тревожили традиционную гуманитарную профессуру, доминировавшую в самых больших и традиционно главенствующих философских факультетах. Однако, институализация продолжалась и побеждала. Между новыми науками и философией появились дисциплинарные границы, профессиональные сообщества стали заниматься своими проблемами уже внутри этих границ, общее поле для дискуссии исчезло.
В 1930-50-е гг. социальные науки, особенно, политические и экономические, по понятным причинам были гораздо больше обычного подвержены идеологиям. Сформировались некие каноны (прежде всего, марксизм и либерализм), которые поляризовали и во многом ограничили исследовательский поиск, отбрасывали на периферию логико-методологические вопросы. Идеологическое противостояние в эти годы было гораздо более значимым, чем вопросы предпочтения номотетики или идиографии. Methodenstreit был почти забыт, но, как выяснилось, не навсегда.
Прежде чем перейти к рассмотрению второго этапа спора, покажем, что дальше его следует рассматривать не только в рамках методологии социальных наук, но также в связи с появившейся в конце 1920-х гг. мощной и влиятельной линией исследований в исторической науке. Речь идет о французской школе «Анналов».
Контрапункт спора — историческая школа «Анналов»
Methodenstreit присутствовал в той или иной форме практически во всех социальных науках XX в. (разве что кроме экономики, где неизменно доминирует математический и номологический подход). Как правило, в социологии, психологии, антропологии, политических науках этот спор выражался в конфликтах между «качественным» и «количественным» подходами, причем первый, идущий от идиографии, обычно использовал те или иные варианты или производные гуссерлевской феноменологии, а ко второму примыкали структурализм, кибернетика, математические моделирование, структурно-функциональный анализ, системный подход и т.п. Это конфликтное разделение достаточно устойчиво, существует до сих пор и обычно не приводило к существенным концептуальным и методологическим трансформациям.
Совсем другая и гораздо более интересная картина наблюдается в эволюции школы «Анналов» [см. обзоры: Buruière, 1979; Пименова, 1993; Русакова, 2000, с.218-246 ]. Этот расширяющийся и разветвляющийся поток исследований отличается от других мировых традиций исторической науки постоянным программным тесным взаимодействием с социальными науками, ставкой на междисциплинарность, на постоянное расширение и обновление предметов исследования, методов и концептуальных моделей, а также своим пристальным вниманием к принципиальным вопросам исследовательской методологии, смелыми революционными поворотами в мышлении.
Обычно развитие школы «Анналов» рассматривают отдельно от эволюции социальных наук и отдельно от Methodenstreit, описание которого сводят к первому классическому этапу (см. выше). Далее мы предпримем совместный анализ, который, как представляется, проливает новый свет на оба процесса.
Формально школа «Анналов» начинается с основания Люсьеном Февром и Марком Блоком журнала «Анналы (ежегодники) экономической и социальной истории» в Страсбурге в 1929 г. Так институализировалось одно из послевоенных интеллектуальных направлений, которое с одной стороны стремилось преодолеть прежнюю историческую науку с ее «коллекционированием фактов», фиксацией на событиях, героических биографиях великих людей, обещало обогатить историю за счет привлечения мощных и влиятельных идей и подходов в области антропологии, макросоциологии, сравнительной истории хозяйства, религии, культуры (Л.Леви‑Брюль, Э.Дюркгейм, М.Вебер, А.Вебер, Г.Зиммель, В.Зомбарт, весьма влиятельная тогда марксистская традиция).
Приверженность лидеров ранних «Анналов» научному подходу, общая направленность на раскрытие «механизмов социальной реальности»[Buruière, 1979, p.1356], интерес к разного рода социальным структурам приближает их к номотетическому полюсу. Однако историков в то время больше интересовала не причинная динамика и эволюционные закономерности, а описание устойчивых социальных, экономических и ментальных структур. Историки не пытались уже предлагать новые варианты «исторических законов», прошлые версии которых были дискредитированы и/или забыты (Бокль, Брейзиг, Спенсер и др.).
Особое внимание к менталитету людей прошлого естественным образом предполагало реконструкцию их умонастроений, внутреннего мира, что приближает подход к понимающей идиографии. Различие состояло в том, что главным методом проникновения было не полумистическое дильтеевское «вчувствование» (эмпатия), а достаточно рациональные и аргументированные реконструкции, основанные на систематическом обобщении большого числа разнообразных архивных материалов — свидетельств. В полной мере это проявилось уже в ранней работе Блок «Короли-чудотворцы» (1924 г.), в которой он реконструировал верования подданных в сакральную природу монаршей власти. Важным козырем ранней школы «Анналов» была направленность на создание «тотальной истории», стремление представить целостный образ социальных, политических, экономических и ментальных структур. Этот подход блестяще реализовал Марк Блок в классической книге «Феодальное общество».
Как видим, школа «Анналов» как бы выскальзывает из одномерности классического противопоставления номотетика-идиография, существенно обогащает проблемное поле методологии социального познания. Но, как мы увидим далее, принципиальная структура спора отнюдь не устаревает.
Второй этап Methodenstreit —
фальшстарт теоретической истории
Новый этап спора открывает статья Карла Гемпеля: «Функция общих законов в истории», впервые опубликованная в 1942 г.[Гемпель, 2000] Начиная с 1949 г. она многократно переиздавалась в сборниках и хрестоматиях и до сих пор по праву считается самой яркой классической работой в сфере логики и методологии социально-исторических наук.
Статью об общих законах в истории (позже их стали называть covering laws — охватывающими законами) Гемпель, принадлежавший младшему поколению членов Венского Кружка, опубликовал уже в США, где в середине века шло становление университетского образования и ощущалась острая потребность в методологическом обосновании принципов построения и преподавания социальных наук. Статья вызвала резонанс уже в конце 1940-х и, особенно, в 1950-х гг. в связи с широким развертыванием англоязычной аналитической философии, прежде всего, аналитической философии истории. Утерянное ранее общее поля для спора вернулось вновь, но, как обычно бывает, в новом обличье.
Карл Гемпель, будучи в молодости участником Венского и Берлинского кружков философии науки, развивал свою версию логического эмпиризма и приложил соответствующую дедуктивно-номологическую схему к проблеме научности исторических объяснений. Блестящая статья 1942 г. убедительно показывает, что обычные исторические объяснения являются в научном отношении неполноценными (defective), а полноценными станут только при использовании универсальных гипотез и универсальных, или охватывающих законов (тех самых covering laws).
Главные тезисы Гемпеля: единство эмпирических наук и, соответственно, общность методологии, необходимость формулирования и проверки общих гипотез (соответственно, получения законов) для полноценного научного объяснения. Понимание в этом аспекте — это только предварительная, возможная, но необязательная эвристика.
1950-е – 1970-е годы прошли в американской философии истории и философии социальных наук под флагом критики Гемпеля. Обращает на себя внимание огромная активность обсуждения проблемы ‘covering laws’ в 1950-70е гг. Подавляющее большинство авторов, несмотря на свою приверженность аналитизму с его прокламируемой логической строгостью, явно ополчились на номологический манифест Гемпеля, причем настолько дружно, что его последующие публикации производят впечатление уступок, смягчения и микширования первоначально смелой и весьма агрессивной атаки на привычные для историков «неполноценные» объяснения.
Помню, впервые попав в американскую университетскую библиотеку, где, как правило, читателям открыт доступ ко всем книгам, я поразился: несколько длинных стеллажей, посвященных философии истории были почти полностью наполнены монографиями, сборниками, материалами конференций этого двадцатилетия, после которого проблематика как будто бы иссушилась.
Сами историки практически не услышали призыв Гемпеля, по большому счету проигнорировали его, продолжая свои привычные занятия и вовсе не пытаясь перестраивать их в соответствии с какими-то нормативными требованиями чужаков. Данный факт усердно использовался критиками Гемпеля: историческая наука живет по своим правилам, надо не диктовать историкам чуждые им подходы, а прояснять логику и структуру самого исторического исследования как оно реализуется на практике.
Малый фрагмент этих споров отразился в книге русских переводов [Философия и методология истории, 1977], и представленные в ней аргументы оппонентов Гемпеля до сих пор с энтузиазмом воспроизводятся многочисленными российскими авторами.
Казус с громко прозвучавшей статьей о роли универсальных законов в истории, массированной двадцатилетней критикой и последующим забвением можно было бы не принимать во внимание, если бы не последующие события и не параллельные процессы развития ведущей в то (и последующее) время исторической школы «Анналов».
Февр уже в начале 1950-х гг. прокламировал не только отказ от европоцентризма, но и «тотальную концептуальную революцию». Однако, радикальный перелом в направлении исследований совершил пришедший на смену Февру новый лидер школы Фернан Бродель. Начал же он с откровенной апелляции к сциентизму, структурализму, точным математическим методам, моделированию, широкому применению статистики и других численных подходов [Braudel, 1959, p.1]. Начался второй период истории школы «Анналов», не менее славный и богатый результатами, чем первый. Методы естествознания в истории успешно применял Лу Руа Ладюри и многие другие.
Смысл происходящего открывается, если принять во внимание еще один методологический призыв со стороны, казалось бы, далекого от истории и социальных наук направления. Один из отцов общей теории систем Людвиг фон Берталанфи прямо предлагает начать создание теоретической истории [Берталанфи, 1969].
Фактически Гемпель, предлагая свою программу полноценного научного объяснения в истории, говорил не о традиционной эмпирической истории, он закладывал основы для теоретической истории как проекта новой науки.
В том же направлении сдвинулась и школа «Анналов», однако обилие нового материала, излишние надежды на количественный подход и математизацию, удручающее пренебрежение (следствие неведения?) номологической программой Гемпеля привели к неоднозначным результатам.
С одной стороны, широкие синтезы Броделя, Ладюри и их коллег были концептуально насыщены, получили заслуженное признание, хотя так и не вышли на собственно теоретический уровень с эксплицитным выдвижением и проверкой гипотез, обнаружением общих законов и закономерностей.
С другой стороны, сугубо численные подходы и увлечение математизацией не дали ожидаемых результатов, привели к определенному разочарованию. Эта линия продолжалась в «Анналах», но доминировать стали уже иные настроения и идеи. В 1970 гг. пришло новое поколение лидеров (Ж.Ле Гофф, М.Ферро и др.). Логика ответа на разочарование, как оказалось, полностью укладывается в измерение классического Methodenstreit номотетика/идиография. От не оправдавшего надежд сциентизма маятниковое движение отбросило «Анналы» к детальным исследованиям казусов, биографий и истории индивидов, к изучению и интерпретации мелких происшествий, слухов и анекдотов. Центром внимания становится историческая антропология, «воображаемое», экзотическое и исключительное.
Попробуем охарактеризовать в целом содержание и значение второго этапа Methodenstreit. Основные черты оказываются неоднозначными, но общий образ вырисовывается.
Большим интеллектуальным прорывом была попытка применения логико-методологических подходов и средств, полученных в Венском Кружке к историческим и социальным наукам. Номологический подход Гемпеля оставил далеко позади прежние наивные версии номотетики, теперь уже стало невозможно объявлять не выверенные и не операционализируемые, часто тривиальные суждения «историческими законами».
Однако гемпелевская методология «охватывающих законов» не получила поддержки у историков, встретила шквал критики со стороны аналитической философии истории, после чего была почти забыта как устаревшая и надоевшая всем тема.
Вместо этого в истории и социальных науках бурно развиваются количественные методы, предпринимаются многочисленные попытки применения математического моделирования и структурно-системных представлений. За исключением нескольких областей (экономическая история, историческая демография) численные методы, скорее, разочаровывают исследователей.
Итак, теоретическая история, основанная на номологическом подходе и математическое, системное моделирование вполне закономерно не воплотились в значимые серии исследований в данный период по одной главной причине: недостаточная разработанность самого понятийного аппарата социально-исторических исследований для того, чтобы можно было применять строгую логику или математическую формализацию.
Одновременно в тот же самый период по многим направлениям и во многих дисциплинах происходят важные сдвиги в концептуальном осмыслении разных аспектов социально-исторической действительности. Багаж концептуальных средств как бы «дорастает» до применимости номологического подхода. «Встреча» этих познавательных средств и появление ярких результатов — это уже начало нового этапа.
Третий этап Methodenstreit —
противоречивые тенденции
Этот этап начинается примерно с ранних 1980-х гг. и продолжается по сию пору. Он также является весьма противоречивым, многосоставным, кроме того, поскольку он не завершен, то нет пока возможности представить целостный образ данного этапа, и придется довольствоваться описанием основных составляющих его процессов и тенденций.
В разных областях социально-гуманитарного знания, в философии и методологии социальных и исторических наук происходят существенные сдвиги, достаточно радикальные повороты, причем, в разных, даже противоположных направлениях. Уходят в прошлое надежды на математизацию, применение структурного и системного подходов, растет скепсис относительно количественных методов. Протестные и достаточно революционные, устремленные к новшествам и перспективам подходы «нео» сменяются ироническими, скептическими, в определенном смысле «усталыми» подходами «пост», первую скрипку среди которых с 1980- гг. играет постмодернизм (к нашему времени уже изрядно поблекший).
Нарастают атаки на «просвещенческие» — объективистские и рационалистические — претензии научного познания[1], причем не только в социально-гуманитарной области, но и в святая святых сциентизма — в цитадели естествознания (т.н. «научные войны»).
Волны идут из Парижа, подхватываются, получают резонанс в Северной Америке, Западной Европе и далее везде, включая Россию. Чуткие к интеллектуальным новшествам «Анналы» вновь производят ревизию методологических оснований. В программной статье «История и социальные науки. Критический поворот?»[ Histoire et science socials…1988] указывается на утерю доверия к структурализму, марксизму, клиометрике. Авторы не находят в социальных науках требуемых ориентиров и предлагают вернуться к нарративу и событийности. В этот период высказываются достаточно противоречивые взгляды. Появляются предложения полностью отказаться от причинного анализа и детерминизма в историческом объяснении (Гренье). Одновременно проводятся активные дискуссии относительно исторической аргументации и верификации объяснительных гипотез (Бургьер и др.).
Параллельно развертываются процессы, менее громкие и известные, но, вероятно, гораздо более значимые в длительной перспективе. Происходит это по большей части в США, в трех тесно взаимосвязанных и взаимообогащающих областях: в исторической макросоциологии, в сравнительной и исторической политологии и в мировой истории (world history). Эти области — анклавы вполне позитивной науки, достаточно далекие от новомодных методологических дебатов, характерных для французских «Анналов».
Исторические социологи и специалисты по сравнительной политологии получили номологическую «закваску» в процессе своего профессионального обучения: споры по поводу преодоления гемпелевской схемы «охватывающих законов» остались им практически неизвестны, исследовательской азбукой для них является обобщение эмпирических данных, формулирование и проверка объяснительных гипотез, систематические сравнения случаев, совместное использование качественных и количественных методов. Работы Ч.Тилли, И.Валлерстайна, Т.Скочпол, М.Манна, А.Стинчкомба, П.Кеннеди и др. в конце 1970-х – начале 1980-х гг. положили начало явлению, которое Р.Коллинз назвал «Золотым веком макроисторической социологии» [Коллинз, 2000а], продолжающимся и набирающем обороты по сию пору.
Отчасти параллельно, отчасти в связи с этим потоком работ стало все шире развертываться исследовательское направление мировой истории. Характерно меньшее внимание «мировых историков» к методологическим изыскам, характерным для школы «Анналов», и большой неугасающий интерес к широким теоретическим обобщениям и методам теоретического анализа, систематического сравнения. Однако, несмотря на отдельные теоретические достижения в мировой истории до сих пор господствует эмпиризм, причем по достаточно простой причине — обилие, громадность нового, незнакомого, экзотического материала пока является самодостаточной величиной (поднимаются колониальные европейские архивы, сопоставляются с материалами национальных и местных архивов многих стран Азии, Африки, Южной Америки).
Итак, третий этап Methodenstreit — это не столько общий спор с единым фокусом внимания, сколько разнонаправленные движения. Вырисовываются следующие составляющие:
1) время усталых и скептических «пост» движений в философской и методологической рефлексии над научным знанием, продолжающаяся «осень эпистемологии»;
2) рост тонкого и изощренного концептуального анализа, тесно сопряженного с интересом к событиям, казусам, личной истории, к сложным взаимопереходам между социальным, экономическим, политическим, культурным, ментальным в обновленной школе «Анналов» и сочувствующей периферии исторической науки; методологическая неравновесность с качаниями между отказом от причинных объяснений и осознанием значимости проверки гипотез и доказательности интерпретаций;
3) рост богатейшего эмпирического материала в мировой истории, альтернативные попытки структурирования и теоретизации, сохранение общего интереса к вопросам глобальной социальной эволюции;
4) продолжающийся «золотой век» исторической макросоциологии; противоречие между значимым накоплением теоретических и эмпирических результатов, с одной стороны, и отсутствием широкого интеллектуального резонанса, рефлексивного осознания смысла и перспектив этого процесса на уровне философской методологии, с другой стороны.
Как было сказано выше, данный этап еще продолжается, поэтому не поддается целостному осмыслению. Однако в первое десятилетие XXI в. уже можно сделать некие предварительные выводы на основе видимых тенденций.
Волна антисциентистского скепсиса (с «авангардом» в лице постмодернистов) явно истощилась. После отлива в этой сфере практически не осталось значимых результатов, которые стоило бы развивать, все шире распространяется растерянность и тревога, ощущение пустоты и кризиса, уже плохо скрываемые. Похоже, собственной линии развития многочисленные движения «пост» не имеют. Им нужен объект нападок. Самостоятельных перспектив в этом направлении мысли не просматривается.
Сложнее судить о тенденциях развития «другой социальной истории» в школе «Анналов». Преодоление европоцентризма столкнуло исследователей с новым, свежим и кажущимся необъятным эмпирическим материалом. Обработка его с помощью богатейшего арсенала концептуальных и методических средств школы продолжает давать интересные, увлекательные результаты. Насколько долго это может продлиться? Можно предполагать два основных варианта развития событий: а) бесконечное продолжение уже идущего процесса совмещения нового (часто экзотического) материала с различными сочетаниями старых и новых концептуальных подходов; б) выход хотя бы части исследователей на теоретический уровень.
Примерно те же альтернативы имеют место и в развитии американской «мировой истории». Здесь гораздо меньше новомодных интеллектуальных изысков, характерных для французских историков, но столь же огромен эмпирический материал, притом, что мировых историков в большей мере интересуют макропроцессы.
Сами эти варианты развития отнюдь не беспричинны, а главные движущие факторы таковы. Широкий приток нового эмпирического материала и постоянное порождение новых концептуальных конструкций в смежных областях познания (социологии, психологии, антропологии) приводят к нескончаемому и самодостаточному развертыванию эмпирических исследований и описаний, сдобренных актуальным концептуальным осмыслением. В этих условиях выход на теоретический уровень может никогда не произойти.
Сосредоточение на интерпретации неких ограниченных эмпирических предметов, структурированное длительное противостояние разных достаточно последовательных парадигм и соответствующих научных сообществ с внутренней солидарностью всегда приводит к рефлексии над вопросами доказательности, обоснованности, валидности. В этих условиях уже вполне вероятно обращение к номологическому подходу — формулированию и систематической проверке теоретических и эмпирических гипотез.
Огромное значение имеет такой фактор социологии науки как преимущественное направление энергии и усилий самих ученых, что напрямую зависит от сравнительной статусности типа исследования, от имеющихся образцов блестящих и признанных результатов, от видения путей и методов многообещающих штудий.
Если призы даются (как сейчас в исторической науке) за новый, введенный в оборот архивный материал (чем экзотичнее, тем лучше) и за использование новейших концептуальных подходов, понятийных конструкций, модных терминов, то и мейнстрим исследований будет продолжаться в этом направлении.
Если экзотический материал истощится, если читатели и редакторы исторических журналов и книжных серий устанут от бездоказательной какофонии концептуальных изысков, если надежно подкрепленные сравнительно-историческим анализом общие положения достигнут признания, то можно надеяться на развертывание теоретического (в частности, дедуктивно-номологического) типа исследований.
Перспективы развития социально-исторических наук —
возвращение номотетики?
Скорее же всего, следует ожидать комбинированную картину. Пространство современных социальных и исторических наук, преодолевших европоцентризм, совмещающих интерес к микро-, мезо- и макропроцессам, настолько велико, что в разных его частях будут происходить процессы обоих типов.
Там, где больше нового экзотического материала, где поиск индивидуализирован, а новизна интерпретации важнее доказательности, там будет царствовать нынешний мейнстрим французской историографии «Анналов». Зато вокруг общеизвестных предметов, бедных новым эмпирическим материалом (например, история Французской революции) и постоянно провоцирующих споры между конкурирующими интерпретациями, вполне можно ожидать дискуссии относительно критериев обоснованности, что непременно приведет к вопросам эмпирической подкрепленности теоретических положений.
Вернемся к классическим вопросам Methodenstreit.
Должны ли социальные и исторические науки строиться по образцам естествознания? Ответ отрицательный. Бороться сейчас против «естественнонаучного империализма» позапрошлого века — значит, ломиться в открытую дверь.
Есть ли некое методологические единство наук с эмпирическим базисом, либо следует автономно развивать исследовательскую методологию в каждой отдельной области? Ответ неопределенный, поскольку спор продолжается.
Вместе с тем, общие соображения относительно повсеместной значимости логики, обобщений, систематических сравнений, эмпирической проверки гипотез, относительно стимулирующего характера взаимообмена познавательными методами и средствами говорят, скорее, в пользу глубокого единства наук и научной методологии [Bunge; 1996; Розов, 2002а].
Выявленные в долгом Methodenstreit фундаментальные особенности социально-исторической действительности — большая изменчивость и практическое отсутствие повторяемости, большое число значимых переменных, невозможность экспериментирования с полнотой контроля над условиями, большая трудность проверки гипотез и т.д. — как выясняется, вовсе не запрещают использование теоретического подхода, даже в строго дедуктивно-номологическом варианте [Machlup; 1961; Розов, 2001], но требует гораздо большей методологической и концептуальной изощренности, чем была доступна во времена Гемпеля, Берталанфи и Броделя [Kincaid; 1990; McInyre, 1993; Розов, 2002б].
Значит ли это, что в социальных и исторических науках грядет возвращение номотетики, пусть и на новом витке спирали?
Если так, то главную роль должна сыграть «темная лошадка» нынешнего этапа Methodenstreit — историческая макросоциология (она же теоретическая история), поскольку именно в этой области следует ожидать появления впечатляющих результатов[2], которые вдохновят новые поколения исследователей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Берталанфи Л.фон. Общая теория систем, критический обзор // Исследования по общей теории систем. М.,1969.С.23-82.
Виндельбанд В. Дух и история. Избр. работы. М., 1996.
Гемпель К. Функция общих законов в истории // Время мира, выпуск 1. Историческая макросоциология в XX веке. Новосибирск, 2000.
Дильтей В. Введение в науки о духе (фрагменты). В кн.: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987.
Дильтей В. Описательная психология. М., 1824. Дильтей В. Собр. Соч., т.1, М., 2000.
Коллинз 2000а: Коллинз Р. Золотой век макроисторической социологии // Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, геополитике, макросоциологии, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып.1. Новосибирск, 2000.
Коллинз 2000б: Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: случай Советского коллапса // Время мира. Альманах современных исследований по теоретической истории, геополитике, макросоциологии, анализу мировых систем и цивилизаций. Вып.1. Новосибирск, 2000.
Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск. 2002.
Пименова А. Анналы: экономики, общества, цивилизации // THESIS. Vol.1. №1.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре (Избранное). М., 1998.
Розов Н.С. Номологический синтез теоретических знаний об истории и культуре (проект интеллектуальной стратегии) // В диапазоне гуманитарного знания. Санкт-Петербург, 2001.
Розов 2002а: Розов Н.С. Философия и теория истории. Книга 1 Пролегомены. М., Логос. 2002.
Розов 2002б: Розов Н.С. Возможные ли «быстрые открытия» и накопление знаний в социальных науках? // Макродинамика: закономерности геополитических, социальных и культурных изменений. Вып. 2 Новосибирск, Наука. 2002.
Русакова О.Ф. Философия и методология истории в XX веке. Екатеринбург, 2000.
Философия и методология истории (сост. И.С.Кон). М., Наука, 1977.
Целищев В.В., В.Н.Карпович, Ю.М.Плюснин. Наука и идеалы демократии. Новосибирск. 2004.
Braudel F. “Annales” ont trente ans //Annales: ESC, 1959, №1.
Bunge M. Finding Philosophy in Social Science. New Haven - L.: Yale University Press, 1996.
Buruière A. Histoire d’une histoire: la naissance des «Annales» // Annales: ESC, 1979, №6.
Histoire et science socials. Un tournant critique? // Annales: ESC. 1998. №2.
Kincaid H. Defending Laws in the Social Sciences // Philosophy of Social Science. 1990,. vol.20. P.56-83.
Machlup F. Are the Social Sciences Really Inferior? // Southern Economic Journal. 1961. Vol. 17.
McInyre H. “Complexity” and Social Scientific Laws // Synthese, 1993, vol.97.
• Работа выполнена в рамках Комплексного интеграционного проекта СО РАН 2006 №7.4 «Интеллектуальные трансформации: феномены и тренды» при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Исследовательский грант №06-03—00346а.
[1] «Наука, с точки зрения постмодернизма, является предприятием, обусловленным чисто исторически, а именно, самопровозглашенным отпрыском Просвещения, основная цель которого состояла в рациональном обосновании всех человеческих институтов — институтов религии, философии, науки, политики. В определенном смысле эта программа провалилась, поскольку развитие человеческого общества в политическом отношении не демонстрирует особого рационализма. Так почему же, говорят постмодернисты, такая же судьба не ждет науку» [Целищев, Карпович, Плюснин, 2004, с.47-48].
[2] «Первой ласточкой» является вполне номологическое предсказание Р.Коллинзом распада Варшавского блока и СССР, сделанное в 1980 г. на основе общей теории (полученной на другом историческом материале) и анализа начальных данных для обеих тогдашних сверхдержав [Коллинз, 2000]. «Одна ласточка весну не делает», зато предвещает.
О Гуревиче:
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/81/kr14-pr.html
1) Впоследствии материалы доклада вошли в книгу: Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
2) Баткин Л.М. О том, как Гуревич возделывал свой аллод // Одиссей. Человек в истории. 1994. М., 1994. С. 15—16.
3) Гуревич А.Я. Подводя итоги... // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 128—134.
4) Об этом А.Я. Гуревич подробно рассказывает в своих воспоминаниях: Гуревич А. История историка. М., 2004. С. 150—161.
5) См. подробнее: Кром М.М. Историческая антропология. 2-е изд. СПб., 2004. С. 18—22.
6) См.: Там же. С. 17, 30.
7) Гуревич А.Я. Этнология и история в современной французской медиевистике // Советская этнография. 1984. № 5. С. 40—48; Он же. Марк Блок и “Апология истории” // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. 2-е изд. М., 1986. С. 225, 229.
 См., например: Гуревич А.Я. Социальная психология и история. Источниковедческий аспект // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 384—426. См., например: Гуревич А.Я. Социальная психология и история. Источниковедческий аспект // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 384—426.
9) Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966; 2-е изд. — 1979.
10) В конце жизни А.Я. Гуревич решительно отказался от термина “историческая психология”, придя к выводу о несовместимости методов психологии и истории, см.: Гуревич А.Я. История историка. С. 247; Он же. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005. С. 13. См. также характеристику книги Б.Ф. Поршнева, данную Гуревичем в интервью, опубликованном в этом номере “НЛО”.
11) Понятия “emic” и “etic” образованы К. Пайком от лингвистических терминов, соответственно, “phonemic” и “phonetic”. “Эмным” подходом Пайк называл изучение некой системы изнутри, “этным” — взгляд на нее извне, со стороны внешнего наблюдателя. См.: Pike K.L. Etic and Emic Standpoints for the Description of Behavior // Communication and Culture: Readings in the Codes of Human Interaction. New York, 1966. P. 152—163.
12) Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988. № 1. С. 57.
13) Гуревич А.Я. Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории // Вестник АН СССР. 1989. № 7. С. 73—74. Ср.: Он же. Проблема ментальностей в современной историографии // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. 1. М., 1989. С. 85—86.
14) См. подробнее: Кром М.М. Историческая антропология. С. 53—56.
15) Цит. по: Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. М., 1993. С. 297. В 2003 году в интервью, данном для альманаха “Одиссей”, Ж. Ле Гофф высказался о термине “ментальность” еще более критически — как о “слишком абстрактном и потому опасном для историка” (см.: Интервью с Жаком Ле Гоффом // Одиссей. Человек в истории. 2004. М., 2004. С. 498).
16) Подробнее см.: Кром М.М. Историческая антропология. С. 56—57.
17) Баткин Л.М. О том, как Гуревич возделывал свой аллод. С. 19.
18) Куприянов А.И. Историческая антропология. Проблемы становления // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1996. С. 366—385.
19) Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: Тезисы докладов и сообщений научной конференции / Отв. ред. О.М. Медушевская. М., 1998.
20) Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 4. С. 3—4.
21) Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 21.
22) Юрганов А.Л. Опыт исторической феноменологии // Вопросы истории. 2001. № 9. С. 39. Статья переиздана в кн.: Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Опыт исторической феноменологии. Трудный путь к очевидности. М., 2003.
23) Кром М.М. Историческая антропология. С. 119.
24) Гуревич А.Я. История в человеческом измерении (Размышления медиевиста) // НЛО. № 75. 2005. С. 39, 40.
25) См.: Одиссей. Человек в истории. 2003. М., 2003. С. 221—241.
26) Гуревич А.Я. История в человеческом измерении. С. 51.
27) См., например: Лавров А.С. Колдовство и религия в России 1700—1740 гг. М., 2000; Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и “духовные преступления” в России XVIII в. М., 2003; Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 2004.
|
|
|
|
| Re: О методах исторических исследований [сообщение #28975 является ответом на сообщение #28974] |
вт, 03 мая 2011 01:54   |
ж-939-ж
Сообщений: 1463
Зарегистрирован: ноября 2009
Географическое положение: Russland
|
|
|
|
У кого будут вопросы по общепринятому методу уже как лет 70 - просим задавать немедленно 
Но, это по данному методу ещё не всё. Продолжение следует. Тогда же и примеры некоторые рассмотрим.
С праздниками! 
|
|
|
|
Переход к форуму:
Текущее время: пт апр #d 19:39:56 MSK 2024
|